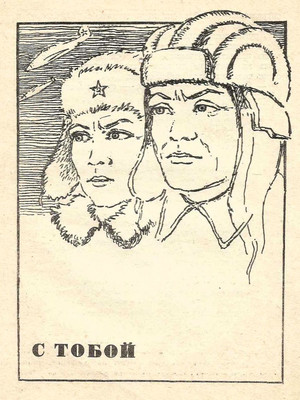С ТОБОЙ
Часть третья
продолжение ч.3
Громкие возбужденные голоса сплетались в один гудящий клубок. Ты вышел из машины, порывисто шагнул вперед:
— Кто дежурный? Что случилось? В ответ сразу несколько голосов:
— Салют!
— Салют в Москве, товарищ подполковник!
— Из ста двадцати орудий!
— И в нашу честь бабахнули!
Возбужденные, радостные голоса накрыла запоздалая команда дежурного:
—- Батальон, смирно! — И радостно-гордый рапорт: —-Товарищ подполковник! Устройство батальона на отдых закончено. Танки замаскированы. Люди определены. Происшествий нет. Получено сообщение, что в Москве дан салют из ста двадцати орудий двадцатью артиллерийскими залпами! В числе отличившихся названо наше соединение!
— Вольно! — скомандовал ты. И к офицерам: — Ну-ну, расскажите-ка поподробнее!
Уже пережившие и потрясения минувших боев, и радость большой победы в этой первой для бригады крупной операции, бойцы снова ликовали:
— Первый салют! И в нашу честь!
— Теперь пойдет!
Я тоже радовалась. Но все-таки ревниво отметила, что хорошая придумка — давать орудийные салюты в честь важных военных побед — явилась в чью-то умную голову с запозданием: первый салют следовало, наверное, дать войскам, разгромившим гитлеровцев под Сталинградом. Впрочем, бои на Курской дуге были логическим завершением Сталинградской битвы: именно здесь, под Орлом и Курском, готовились немецкие войска взять реванш за Сталинград. Гитлер торжественно заявил, что это будет «последнее сражение за победу Германии», что «победа под Курском должна явиться факелом для всего мира». Что имел он в виду, произнося эти слова?
В который раз выхожу из землянки, определенной под санчасть, чтобы увидеть тебя: ведь мы не поговорили о салюте, не обменялись радостью. Ты вынырнул из темноты неожиданно, оживленный, радостный.
— Теперь будем наступать. Только наступать! Знаешь, — сказал ты, уведя меня по тропинке в глубь леса, — я подготовил одно предложение. Примешь его? Я хотел бы отметить этот день нашим бракосочетанием, а?
— Да, но... — я умолкла, не зная, чем подтвердить свое неясное, неопределенное «но». Зина, Шурик, дядя Корней, Алешка, умирающая Степанида Максимовна — почему появилась тревога, когда вспомнились они? Разве я виновата перед кем-нибудь из них? Зина? Но там все давно разрушено ею же самою. Твой отец? Он любит меня. И мама твоя любила. Алешка? Да, вот еще Алешка. И Зина, конечно, тоже — у нее есть Шурик, твой сын... Наверное, поэтому вместе с радостью копошится в душе тревога и растерянность.
Ты заметил все — и мою застенчивую радость, и мгновенно мелькнувшее замешательство. Обняв мои плечи, повел в свою комбатовскую землянку.
Четыре укрепленные досками ступеньки вниз. Невысокая — так, что тебе, идущему впереди, пришлось нагнуться — дверь. На длинном дощатом столе с врытыми вокруг него скамьями коптилка из снарядных гильз. Ты зажег ее.
— Вот. Хозяйничай... А завтра будет свадьба. И гости будут. Согласна?
Смущенная, радостная, счастливая, я уткнулась лицом в твою грудь.
Стол заставлен бутылками с вином и водкой, завален банками консервов, буханками хлеба. Раскрываю консервы. Режу хлеб, раскладываю его на белых бумажных листках. А в дверь уже стучат. Входят два твоих заместителя; майор Попов — но политчасти, капитан Лиханов — по строевой.
Я стою по стойке смирно»:
— Здрасьте, товйрищ майор! Здрасьте, товарищ капитан!
Они смеются:
— Вольно, вольно! Мы же гости. А ты хозяйка...
Снова стук: повар приносит в ведре стаканы, вилки,
жестяные тарелки и мирки. Легонько отодвигает меня плечом:
— Вам сегодня работать не полагается!
Боже, уже весь батальон зцает...
А вот у землянки отчаянно сигналит мшпина.
— Узнаю трофейную комбриговскую, - смеется майор Попов, распахивая дверь. Вошли командир бригады — тучный, с. удивительно прямыми плечами полковник Аверин и начальник штаба бригады подполковник Кульбаков — высокий, худой и, как мне кажется, очень серьезный и строгий человек. Шофёр вносит две высокие квадратные консервные банки с американской колбасой, вещевой мешок с яблоками. Комбриг критически оглядывает мою выцветшую гимнастерку, короткие, с широкими голенищами кирзовые сапоги. Кивнув на колбасу и на яблоки, которые шофер высыпал на постель, говорит:
— Это не подарок. Подарок за мной.
Через несколько дней меня вызовут в штаб бригады. Я побегу, волнуясь: зачем это санинструктор батальона понадобился комбригу?
Полковник подаст мне новые хромовые сапожки:
— Вот мой тебе свадебный подарок!
А майор, начальник АХО бригады, развернет сшитый по моему росту синий, как у танкистов, комбинезон. Но это будет потом. А сейчас в землянку, с аккордеоном в руках влетает стремительный, подвижный Женя Соколов, старший лейтенант, начальник штаба батальона. Козырнув бригадному начальству, загадочно-весело говорит, обращаясь к тебе:
— Приедут, товарищ подполковник, с минуты на минуту!
Надев на плечи ремни аккордеона, улыбается:
— Всю жизнь буду хвастать: играл на свадьбе у комбата! — И заиграл. А мы стояли вокруг и пели — про любимые города, из которых улетают в далекий край и уходят в море, про синий платочек, про чубчик кучерявый, про Васю-Василька и про все эти дни, которые где-нибудь когда-нибудь мы будем вспоминать. Так оно и случилось. Всю последующую, уже послевоенную жизнь, где и когда ни зазвучали бы эти песни, они невольно возвращали мою память к этому счастливому дню...
За песнями мы не услышали шума подкатившей машины, услышали только озорно и долго гудящий автомобильный сигнал.
— Они! Узнаю Серегу! — Ты бросился встречать приехавших, но те уже спускались по ступеням в землянку. Их было двое: невысокий, с густой сединой на висках генерал-лейтенант и уже знакомый мне по Подмосковью полковник Молодцов. По твоим рассказам я знала, что в сорок первом вы были в одной дивизии. Генерал Северинов, тогда полковник, командовал ею, а твой друг по училищу Сергей Молодцов, майор, был, как и ты, командиром полка.
Меня всегда удивляла твоя способность одним-двумя штрихами подчеркивать самое характерное в человеке, в его облике. Когда после твоего ночного рассказа о боях сорок первого года на улице подмосковного дачного поселка встретился мне «виллис», из которого стремительно вышел полковник с черными, не умещающимися под фуражкой кудрями, я сразу узнала: Молодцов! Твой друг Молодцов!
Теперь точно так же узнала я сибиряка Северинова и, когда, сняв фуражку и прищелкнув по старой кавалерийской привычке каблуками, он густым, удивительно низким голосом назвал себя, не выдержала, засмеялась и призналась, что давно и очень хорошо знаю его.
— Откуда? — недоуменно пробасил генерал, поглядывая то на меня, то на тебя. Догадавшись, укоризненно покачал головой: — Наговорил тут, поди-ко, про меня... семь верст до небес и все лесом... Тимоша-а! — громко позвал он кого-то, подойдя к двери.
Вошел ординарец. Генерал взял у него один из двух свертков, развернул. Из бумаги скользнул, протянулся до пола отрез белого, в блестках шелка.
— Хорош! — улыбаясь, проговорил генерал. — Приедете в военторговскую мастерскую при штабе армии, там сошьют вам свадебное платье. Я распоряжусь!
— Ой что вы! На войне-то?
— А почему бы и нет? Память, однако, на всю жизнь... А это — жениху.
В другом свертке оказались белые замшевые сапоги. Все долго смеялись: где и когда носить их, такие?
— Вот это уж не моя забота, — басил Северинов. — Мое дело придумать свадебный подарок.
Полковник Молодцов тем временем принимал от ординарца бутылки вина, кульки с конфетами, с яблоками, стопки шоколадных плиток. Расставляя и раскладывая все это на столе, он разговаривал одновременно со всеми, хохотал, размахивал руками. Землянка, казалось, до краев наполнилась его шутками, смехом. В завершение он вручил мне букет ромашек и, окончательно смутив меня, расцеловал в губы.
— Не красней! Жених не приревнует. Мы с ним давние-предавние други. Может быть, самые лучшие на всем белом свете. Попробуй возразить! — кричал он тебе, грозил пальцем и хохотал. И хотя все было просто и весело, я весь вечер не могла избавиться от смущения п неловкости перед такими высокими гостями.
После застолья Женя Соколов снова без устали играл на аккордеоне. Тучный комбриг и наш сухощавый, поджарый зампострой капитан Лиханов одинаково легко и лихо плясали лезгинку, все остальные хлопали в ладоши и кричали:
— Ас-са! Ас-са!
Подполковник Кульбаков читал Есенина. Майор Попов, изображая дряхлого старика, рассказывал какие-то потешные истории. Полковник Молодцов, обняв тебя, приятным густым баритоном пел снова и снова:
— Чубчик, чубчик, эх, чубчик кучерявый, эх, развевайся, чубчик, по ветру...
— Женился друг — полдруга стало, — неожиданно грустно признался он.
— А я считаю: женился друг — два друга стало: он и его жена, — заметила я.
— Точно! Считай, Сережка, так, — поддержал меня ты.
— Это смотря какая жена... — Полковник покрутил в руках стакан с вином, поднялся: — Друзья! Слышал я, так говорят в народе: женился друг — полдруга стало, остальное жена забрала. Но вот невеста моего друга утверждает обратное: женился, говорит, друг — два друга стало: он и его жена. Ну что ж... Выпьем за то, чтобы жена подполковника стала нам всем, его друзьям, таким же прекрасным другом, как и он сам.
— За дружбу! За крепкую фронтовую дружбу!
В землянке было тесно, но мы все-таки танцевали. Первый вальс был с тобой. Потом я танцевала по очереди с каждым из гостей. Да, дня счастливее этого не было и, наверное, уже не будет в моей жизни.
В сизые предрассветные сумерки мы провожали твоих друзей из штаба армии.
— Да, одну минуточку! — спохватился вдруг генерал Северинов. Поспешно вернувшись в землянку, он попросил мою красноармейскую и твою офицерскую книжки и ручку с чернилами. Женя Соколов сбегал в штаб за чернильницей. И тогда в пункте 8 «общих сведений»" моей красноармейской книжки генерал написал: «Муж — подполковник...» — и указал твою фамилию, имя и отчество. А в твоей офицерской книжке сделал запись: «Жена — гвардии старшина Любовь Давыдовская, санинструктор танкового батальона».
— Некоторые думают, что фронтовая свадьба — так, между прочим, — сказал он. — Так вот, в ваших солдатских паспортах будет теперь значиться, что вы вступили в брак законный, фронтовой, незабываемый до конца дней ваших!
Неужели все это было?
— Ты меня любишь, любишь? — вдруг как-то очень серьезно, тревожно спрашивал ты, и я ощущала огромность своей власти над тобой, человеком, старшим по возрасту, опытным военным. В такие минуты мне казалось, что я большая, сильная, твоя опора, твой старший друг, твоя мать, чьи слова, внимание, забота, ласка вечно нужны тебе, комбату, моему взрослому ребенку.
Жизнь наступила удивительная. За два очень трудных минувших года я привыкла думать: раз война, значит, бои, атаки, контратаки, бомбежки, обстрелы, рытье окопов и строительство блиндажей, вылазки поисковых групп, разведки, опять атаки и контратаки. И так — беспрерывно.
Но вот оказалось, что и на войне бывает жизнь, похожая на жизнь воинской части в мирные дни. Называется она — отдых, переформировка, учеба. Подъемы, завтраки, обеды, ужины, сон — все идет строго по распорядку. Перед сном прогулки. Мы ходим строем, и притихший лес слушает мощно звучавшие голоса довоенной песни:
Три тан-ки-иста, три ве-се-лых дру-у-га-а-а,
э-кипа-а-ж ма-ши-ны боевой!
Выдастся минута тишины и покоя — и сердце открывается навстречу солнечному лучу, озарившему сосны, навстречу нехитрому полевому цветку или веточке с подернутыми туманом ягодами ежевики. И тогда вдруг почудится: нет и не было никакой войны! А то, что мы хоронили товарищей в братских могилах посреди степей, посреди ржаных и пшеничных полей, — просто тяжелый, страшный сон.
Главным в этой нашей жизни стала учеба. Занятия, занятия... Занятия отдельно с водителями, с башнерами, с радистами Совместные занятия экипажей. Командирская учеба. Ночные стрельбы. Занятия в поле, на танках, на полигоне.
— Набирайтесь, набирайтесь, ребятки, знаний и сил для новой схватки с врагом! — говорил ты, на минуту остановившись перед группой радистов, с которыми где-нибудь прямо на поляне проводил занятия начальник связи батальона.
— Машину изучайте как следует! Чтоб на «отлично»! — будто походя, бросал ты механикам-водителям, занимавшимся у танков, и делал вид, что оказался здесь случайно.
— Скорость и точность движений! Скорость и точность — вот ваши боги! — твердил ты башнерам.
На конференциях и собраниях предупреждал танкистов:
— Смотрите, друзья! Слова «набирайтесь знаний», «в совершенстве изучайте технику» теперь всюду — и на плакатах, и в заголовках корпусной газеты, и в требованиях и приказах командиров. Могут примелькаться. Пуще огня остерегайтесь этого. Потому что в бою цена плохо изученной машины очень высока: человеческие жизни. Наши жизни. И это не фраза: и успех боя, и жизнь солдата в бою во многом зависят от знаний, от умения быстро и ловко действовать, мгновенно принимать решения. Расхлябанность и незнание одного отражаются на всем экипаже. И потому ни у кого из вас не может быть знаний посредственных или даже хороших. Только отличные!
О твоей требовательности ходили анекдоты. Ты всегда был недоволен ходом занятий, стрельбами, действиями взводов и рот на учениях. И только я знала, насколько гордишься ты танкистами, как высоко ценишь их мастерство.
До предела загруженная жизнь солдата проста в быту: никаких забот об одежде и обуви, о питании, о крыше над головой.
Тем сильнее терзают нас заботы жителей окрестных сел — сожженных, разбитых. Ранними росными утрами и по вечерам издалека приходят к нам истомленные женщины с иконописными лицами, приносят в белых узелках кто вязаную кофточку, кто ситцевую блузку или ситцевый головной платок. Они предлагают это мне и Полине — машинистке штаба бригады, считая, что, наверное, сильна у нас тяга ко всему, что напоминает о доме, о детстве, о прежней, без войны жизни.
— Уберите! — прошу я.
Я не могу видеть эти глаза, эти лица, эти узелки в руках, не могу обмануть тревожных женских надежд и каждый раз отправляюсь к помпохозу — клянчить мыла, соли, крупы.
—- Пожалуйста, а? — прошу я. Хитрю: — Ведь мой паек почти весь остается. Я же пробу с варева снимаю.
А по ночам вперемежку с лицами погибших снятся мне худые, дочерна загорелые женские лица, усталые глаза, морщинистые руки. Я снова и снова слушаю их рассказы — о повешенном немцами старике, в таратайке у которого нашли прикрытое сеном мясо — он вез его, чтобы передать связному от партизан, о массовом угоне парней и девчат в Германию, особенно трагическом потому, что устроили его фашисты перед самым приходом наших войск, о том, как после стычки с нашими партизанами гитлеровцы для устрашения населения целые сутки беспрерывно строчили с пожарной каланчи из пулемета и весь день и всю ночь никто не мог появиться на площади и на улицах в ее округе.
Опять и опять виделась мне старая седая учительница и то, как пошла она по снегу к соседке за горячими углями, чтобы разжечь печурку, и как немецкий солдат остановил ее и приказал снять валенки. Босая женщина пошла дальше, немец же, увидев у нее на пальто меховой
воротник, снова остановил ее, подошел не спеша и стал отрывать воротник. А воротник не отрывался. Солдат вытащил из кармана перочинный нож; и, хохоча, то и дело приставляя его к горлу учительницы, начал спарывать воротник. При этом он требовал, чтобы женщина поворачивалась — так ему было удобнее действовать. Больная, беспомощная, топталась она на снегу босыми ногами, и тогда, когда все уже было кончено, немец толкнул ее: иди. мол. Учительница, так и не взяв у соседки горячих углей на растопку, вернулась в свой дом с неистопленной печью, слегла и к вечеру умерла.
В редкие свободные минуты, когда нам удавалось побыть вместе, я рассказывала тебе про сны, про этих женщин. Ты слушал внешне спокойно, только глаза, ставшие из голубых серыми, прищуривались все больше, выражение ироничности и застенчивости сползало с лица, сменялось задумчивостью. Ты курил, молчал. Только однажды с тоской сказал самому себе:
— Если бы воевать без отдыха, без переформировок!
Если бы... Тогда, в те спокойные ночи, я часто видела один и тот же сон: в кофточке с голубыми горошинами, с белой косынкой, завязанной на груди, стою я с тобой на нашей скале. Солнечный трепет моря, белые чайки, и совсем недалеко от нас мелькают, выныривая из воды, гладкие черные спины дельфинов. Война кончилась! Мы — дома!
Наш корпус перебросили на юг. Под Ямполем его ввели в прорыв, и мы понеслись вдоль линии обороны, которую гитлеровцы еще только создавали, почти не встречая сопротивления. Мелкие гарнизоны, завидя лавину броневых машин, сдавались. А строительные батальоны часто принимали нас за своих и продолжали спокойно работать. Когда же танки подлетали вплотную, солдаты, увидев, что это «рус панцер», разбегались.
А мы все неслись и неслись, ощущая восторг от своего стремительного продвижения. Летели, будто на крыльях, вдоль сети недорытых рвов, недостроенных дотов и дзотов.
Впрочем, «неслись» — не то слово. Наступал март. После снежной, какой не помнили старожилы этих мест, зимы нагрянула ранняя, дружная весна. Таяли, оседая под теплыми туманами и ранними ливнями, снега. С холмов и пригорков весело, бурно стекали ручьи, сливались в настоящие реки, образовывали в низинах целые озера. В этакую-то пору, да в мирное время, крестьяне, с трудом добравшись до мастерской, стоящей где-нибудь на околице села, готовят к севу машины, а сами с нетерпением ждут: скоро ли отбушуют, отыграют ручьи да подсохнут на взгорках поля, чтобы можно уж и за село выбраться, взять горсть земли и, зная, что она еще шибко сыра, все же насладиться ее неповторимым ароматом, несущим в себе запахи талых вод, теплого солнца, сырой гнили корней, намокших, увядших трав и самой земли, и еще чего-то такого, отчего щемит сердце и человек постигает вдруг, как прекрасен мир, как обновляется он весенними дождями, туманами, ласковым теплом и одуряющей свежестью ветров. Но вот устанавливаются дороги...
Крестьяне ждут, пока они установятся. А нам некогда было ждать. Оттаявший жирный чернозем, глубоко взбуруненныи гусеницами, превратился в жидкое месиво, и танки плыли, скрытые в нем чуть ли не по самые крылья. У грузовиков глохли моторы. Тогда десантники спрыгивали с брони в грязь и, утопая в ней выше коленей, вытаскивали машины на руках, несли их до взлобков... И все же во мне до сих пор живет ощущение стремительности нашего движения.
С ходу перерезали мы железную дорогу Проскуров — Тернополь и понеслись дальше, опережая начавшего отступление врага, не дозволяя ему организовать оборону, и неслись все дальше, давя, кромсая, сбивая в кюветы машины, орудия, самоходки.
На сто восемьдесят километров врезался наш танковый клинок в тылы врага. Около, ста деревень и сел освобождено было почти без потерь. Разве это не стремительность? И разве может при этом не охватить солдата чувство восторга? Тем более что наш батальон был острием клинка — шел первым в этом потоке войск.
Когда мы ворвались в Гусятин, на станции шла разгрузка только что пришедшего состава: ничего не подозревая, немцы выводили с платформ танки, тяжелые орудия. Наш удар был неожиданным и стремительным. Потом, после боя, мы хотели осмотреть Гусятин, но проехать на машине не смогли: улицы, переулки, дорога, ведущая к станции, — все было забито искореженной вражеской техникой. Танки расчистили путь для войск, следующих за нашей бригадой, и так же стремительно ринулись дальше. 'Мы даже не знали, что Москва салютовала частям, освободившим Гусятин. Значит, и нам...
Теперь дорога стала трудной: немцы бросили на нас «юнкерсы». Тяжелая липкая грязь, сложная местность — то залитые водой низины, то вязкие взгорки — ограничивали проходимость танков. Зенитные батареи, которые должны были прикрывать бригаду с воздуха, отстали. А самолеты висели над головой, стремительно пикировали, обдавали нас огнем крупнокалиберных пулеметов. Загорелась одна тридцатьчетверка, другая. Языки пламени выплеснулись из-под машины старшего лейтенанта Жоры Прокопьева. Экипаж выскакивает из люков, и я, прыгая с крыла танка, считаю на бегу: один, два, три... А где же четвертый?
Четвертый вылезает не торопясь, огромный, широкоплечий. Жора! Значит, все живы!
Другую машину бомба настигла в тесной низине меж двумя буграми. Еще несколько минут назад видна была башня с открытыми верхними люками, а теперь там жарко полыхает пламя. В горле застревает тугой ком — не сглотнуть, не передохнуть...
И все-таки мы неслись и неслись. Брызги холодной грязи с ног до головы захлестывали сидящих на броне. Ветер с дождем и мокрым снегом бил в лицо. Десантники жались к башням танков, берегли от грязи, прятали под шинели автоматы.
Командир танка лейтенант Миша Прозоров вылез из люка, радостно крикнул мне в ухо:
— Четвертая! Сам приказал: только на четвертой! Сам — значит ты... Я тоже, как и лейтенант, люблю скорость и кричу в ответ:
— Хорошо, а?
Перевалило за полдень, когда танки выскочили на пригорок, и мы увидели впереди необычный город. Он стоял на высоком круглом острове, опоясанный рекой, протекающей далеко внизу. Противоположный берег высок и отвесен, как стена. Кажется, трудный орешек...
Внезапно из крутых облаков вынырнули «юнкерсм».
— Воздух! — пронзительно выкрикнул кто-то. Танкисты еще сомневались, выглядывали из люков: действительно ли воздушный налет? Танки остановились, ощерились установленными на башнях стволами пулеметов. Десантники, спрыгнув с брони, стали строчить по самолетам из автоматов. А «юнкерсы» заходили справа, слева, летели так низко, что видны были лица пилотов. Потом взмывали вверх и, будто ввинтившись в небо, с воем, от которого холодело сердце, снова пикировали на танки.
Когда загорелся и врезался в землю первый сбитый «юнкерс», грянуло такое дружное и мощное «ура», какое было лишь через год, когда ночью, по дороге в Прагу, мы узнали, что кончилась война. Автоматчики орали, подняв вверх оружие, размахивая им. Танкисты вылезали из люков и тоже кричали восторженно. И, словно напуганная нашим ликованием, а вернее всего, потому, что были израсходованы боеприпасы, часть самолетов почти по прямой взмыла в небо и скрылась за облаками. Но еще пикировали, сбрасывая бомбы, стреляли из пушек и пулеметов остальные.
Когда же, оставляя за собой черный дымный шлейф, врезался в землю второй самолет и сумрак надвинувшейся ночи озарился мощной огненной вспышкой взрыва, «юнкерсы» развернулись и ушли. И тут же взревели моторы тридцатьчетверок, передние машины включили фары, по их примеру сделали это все остальные. Батальон на предельной скорости ринулся вперед.
Однако ворваться в город с ходу не удалось: каменный мост через реку прикрывали пушки, укрытые в крепости. Другие мосты оказались взорванными, броды были заминированы.
И ночь, и весь следующий день шла артиллерийская дуэль. Саперы в это время нашли и разминировали броды. Появилось много пехотинцев — прошел слух, что это подошли основные силы.
И опять — ночь.
— Пора! — глядя на светящийся циферблат часов, говоришь ты обступившим тебя командирам рот, взводов, танков. Офицеры разбегаются по машинам. Тихая команда: «Заводи». Тридцатьчетверки — без огней, как бы на ощупь — осторожно, медленно спускаются в реку. Они кажутся слабыми и беспомощными перед сплошной стеной орудий, самоходных установок, бронетранспортеров, которые ведут огонь с того, высокого берега. Грохочут взрывы. Вздымаются вверх фонтаны воды, перемешанной с землей. Сердце бьется тревожно. Разум требует: «Скорей! Скорей!» А танки идут медленно. Но они идут, идут, и становится ясно, что неистовый вражеский огонь бесприцелен.
Одна из тридцатьчетверок, включив фары и задрав нос, резко выскакивает на берег — прямо на противотанковую пушку. Почти одновременно с нею зажигают фары остальные машины и на предельной скорости тоже лихо вылетают на берег. Теперь там все перемешалось. Видно лишь, как мечутся, скрещиваясь и расходясь, полосы яркого света, в которых возникают то колеса перевернутых пушек, то закрывшие лицо руками солдаты, то бронетранспортеры, перевернутые на бок, то хлам, оставшийся от раздавленных грузовиков. И тогда, опередив команду своего ротного, бросаются в реку автоматчики.
Потом ты рассказывал: перед тем как форсировать Смотрич, командир взвода разведки лейтенант Проць запросил разрешение идти первым.
— Это мой родной город, товарищ подполковник! — взволнованно кричал он в переговорное устройство.
— Это наш город! — ответил ты. — Следуйте, как приказано!
Лейтенант Проць... Он погиб на улицах родного Каменец-Подольска.
Раненые танкисты, которых я перевязывала, экипажи машин, с которыми оказывалась рядом, бросали короткое: «Командует!» Значит, ты жив! Но вот во время минутной передышки кто-то из офицеров сообщил: ваши с Жорой Прокоцьевым танки умчались на вокзал встречать фашистский эшелон, который доставил гарнизону города подкрепление: пехоту, боеприпасы, орудия. Наверное, я изменилась в лице, потому что кто-то другой уже успокаивал меня:
— Да ты не волнуйся: комбат с Жорой дадут им прикурить!
Комбат с Жорой! Разве же это силы — две тридцатьчетверки?
«Ну и тяжеленько пришлось нам со старшим лейтенантом Прокопъевым, — сказал ты на следующий день, когда все было кончено. — Спасибо, артиллеристы помогли!» Представляю, каково было вам, если ты сам признался: «Тяжеленько...»
О боях в Каменец-Подольске теперь уже не осталось цельного впечатления. Все возникает в памяти как клочья раздерганной ветром тучи: горящий вражеский танк у самого ствола нашей пушки с исковерканным, рваным щитом... Разметанная взрывами батарея... Догорающие ящики из-под мин... «Тигр», жерлом орудия уткнувшийся в землю... Улица, до отказа забитая рядами не успевших выбраться из города автомашин... Трупы солдат — немецких и наших... И раненые. Не помню ни лиц, ни званий, ни имен — только раны. Впрочем, осмысливать происходящее и осматриваться было некогда. Атаки, вражеские и наши, следовали одна за другой. Сколько их было? Десять, двадцать, сто? И каждая казалась последней...
Потом стало легче. Вокруг в разных местах еще продолжалась автоматная и пулеметная перестрелка, выли и хлюпали, разрываясь, мины, гремели одинокие орудийные выстрелы. Но это уже никого не тревожило. Бой угасал.