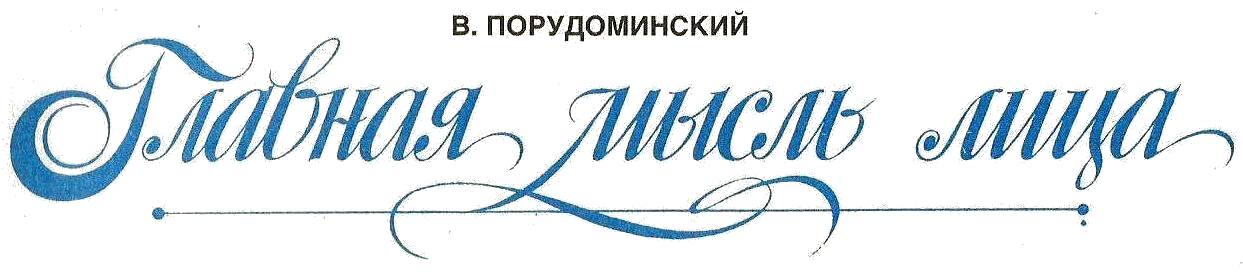
 Великолепное повествование писателя В. И. Порудоминского о Великих, которое можно условно разбить на темы:
Великолепное повествование писателя В. И. Порудоминского о Великих, которое можно условно разбить на темы:
I. Рождение Третьяковской галереи. История создания портрета Ф. М. Достоевского по заказу основателя этого музея русской живописи П. М. Третьякова.
II. Размышления о личности Ф. М. Достоевского. Воспоминания, факты из жизни писателя.
Источник: детский журнал "Пионер" ("Костер"?)
1980-е
В. И. Порудоминский
"Позвольте и ваш портрет иметь"
Павел Михайлович Третьяков - Федору Михайловичу Достоевскому:
"Милостивый государь Федор Михайлович.
Простите, что не будучи знаком вам, осмеливаюсь беспокоить вас следующею просьбою. Я собираю в свою коллекцию русской живописи портреты наших писателей. Имею уже Карамзина, Жуковского, Лермонтова, Ложечникова, Тургенева, Островского, Писемского и др. Будут, т.е. закзаны: Герцена, Щедрина, Некрасова, Кольцова, Белинского и др. Позвольте и ваш портрет иметь (масляными красками); смею надеяться, что вы не откажете в этой моей покорнейшей просьбе и сообщите мне, когда для вас более удобное время. Я выберу художника, который не будет мучать вас, т.е. сделает портрет очень скоро и хорошо.
Адрес ваш я добыл от Павла Васильевича Анненкова.
В случае согласия - в чем я осмеливаюсь не сомневаться, - покорнейше прошу известить меня.
С глубочайшим почтением имею честь быть вас милостивого государя покорнейший слуга
П. Третьяков
Москва
31 марта 1872 г.
Адрес для письма:
Павлу Михайловичу Третьякову в Москве.
Живу в Толмачах в собственном доме. Это на случай, если не придется ли вам быть в Москве и, может быть, захотите зайти ко мне; письмо прошу адресовать просто: в Москву".
 Можно адресовать письмо просто: в Москву, П. М. Третьякову. Павел Михайлович в Москве человек известнейший: именитый купец, общественный деятель, главная же его слава - собрание русских картин, ставшее делом жизни.
Можно адресовать письмо просто: в Москву, П. М. Третьякову. Павел Михайлович в Москве человек известнейший: именитый купец, общественный деятель, главная же его слава - собрание русских картин, ставшее делом жизни.
"Живу в Толмачах в собственном доме"... Здесь, в собственном доме, и размещается непрерывно пополняемое третьяковское собрание; сюда, к небольшому дому в приходе церкви Николы, что в Толмачах, старинной слободе, некогда заселенной дворцовыми переводчиками - толмачами, обращаются мыслью, мечтой лучшие русские художники. Девятнадцатый век перевалил за половину, но Россия не имеет другого - кроме собрания Третьякова - музея национальной живописи. Сам факт приобретения картины Третьяковым, его нравственная поддержка - он крайне строг и целеустремлен в выборе - для судьбы художника часто значит много больше, чем полученная от него же материальная помощь. "Единственный адрес мне, да и всем мало-мальски думающим русским художникам известный, один - это "Лаврушинский переулок, Никола Толмачи", - пишет собирателю художник Иван Николаевич Крамской.
К 1872 году, когда Третьяков обращается с письмом к Достоевскому, его галерее минуло полтора десятилетия. Для Третьякова с первых же шагов дело его - не "вложение капитала", не прихоть богатого человека, не счастливая случайность, даже не "просвещенное покровительство" искусству, а ясная, глубоко осознанная и прочувствованная идея. Приобретая еще только первые картины для своего собрания, он объясняет: "Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие". И тогда же - что "желал бы оставить национальную галерею, т.е. составленную из картин русских художников".
Тут все ново, все замечательно! И что хранилище "общественное, всем доступное", и что галерея "национальная"! И не менее замечательно, что заявления эти не прекрасная декларация, не благое пожелание, тем более не для красного словца произнесены - Третьяков был "молчун", речей на ветер не бросал, и уж коли говорил, то непременно по делу: про общественное хранилище и национальную галерею он пишет в документе, в завещании, составленном на случай его, Третьякова, смерти. А ему в пору составления этого первого завещания всего двадцать восемь лет - жизнь только начинается!
Третьяков молод, и национальное искусство, собиранию которого, соединению в целое решает он посвятить жизнь и которое благодаря этому шагает быстрее, успешнее, тоже молодо, но какая прозорливость: "...Верую в свою надежду: наша русская школа не последнею будет!".
К началу 70-х годов Третьяков одержим идеей иметь в галерее "собрание портретов русских писателей, композиторов и вообще деятелей по художественной и ученой части". Именно деятелей, людей, отмеченных деяниями, а не положением, которое одно только предоставляло прежде преимущественное право на портрет. Привлекая к осуществлению идеи лучших мастеров живописи, Третьяков просил их "взглянуть" на создание таких портретов "с патриотической стороны".
Как ни широко поставлена задача - "деятели по художественной и ученой части", - всего более, пожалуй, радеет Третьяков о портретах писателей. Оно и понятно. Никогда прежде писатели не были до такой степени властителями дум общества - не в узком смысле, не в кавычках "общества", а в самом широком: общества, страны, народа. Никогда прежде литература не выражала так широко и полно все то, что тревожит, мучит, заставляет страдать, искать решения миллионы русских людей - не напрасно свежий номер журнала становится событием и в столичной читальне, и в провинциальной глуши, в каком-нибудь Скотопригоньевске (городок, придуманный Достоевским, - в нем разворачивается действие "Братьев Карамазовых") - в прозе и стихах, в статьях и заметках читатели ищут объяснение "злобе дня", ответ на "больные вопросы", стремятся вычитать, как думать и как поступать.
Никогда наконец в литературе не действовало одновременно такое созвездие великих творцов: свежий номер журнала сулит новые страницы Толстого, Тургенева, Достоевского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Островского, Гончарова... - а сколько еще было первостатейных прозаиков и поэтов, которые рядом с этими могучими отступали на второй план, "стушевывались" (словцо, Достоевским в нашу речь введенное), что не мешает им и по сей день числиться в классиках и составлять славу отечественной литературы!..
Достоевский, конечно, не случайно один из первых писателей, чей портрет Третьяков желает видеть в своем собрании. К 1872 году, когда Павел Михайлович обращается к нему с письмом, Россия читает и перечитывает, переживает, проживает в душе своей "Униженных и оскорбленных", "Преступление и наказание", "Идиота". Можно было любить Достоевского и не любить, можно было спорить о нем и соглашаться с его порицателями, - немыслимо было, читая его, не взглянуть (по слову Радищева) "окрест себя", не ощутить, как душа "страданиями человечества уязвлена стала". Личность писателя тоже вызывала у всех, его читавших, широкий интерес. На заре литературной деятельности приговоренный к смертной казни за принадлежность к революционному кружку петрашевцев, прошедший весь ужас приготовления к ней, изведавший каторгу и солдатчину, он возвратился в литературу не сломленный, а как бы обновленный, осознавший, что обрел право поведать людям нечто главное о них самих.
Павел Михайлович Третьяков, отличный знаток новой русской литературы, конечно же, внимательно читает всякое новое сочинение Достоевского, о самом авторе ему тоже, надо полагать, известно немало - достаточно много общих знакомых; тот же Анненков, от которого получен адрес, хотя отношения его с писателем по многим обстоятельствам не отличаются приязнью, знавал Достоевского еще до ареста и каторги.
Сочинения Достоевского сильно действуют на Третьякова, но особенно мощное впечатление произведут на него последние творения писателя. Как раз те, которые он прочитает после создания портрета: статьи и очерки из "Дневника писателя", роман "Подросток", речь о Пушкине, "Братья Карамазовы". Летом 1880 года, за семь месяцев до смерти Достоевского, во время московских торжеств по случаю открытия памятника Пушкину Третьяков увидит Федора Михайловича, услышит его потрясшую собравшихся речь, подойдет к нему и "чуть" (слово Павла Михайловича) пожмет ему руку. Знакомство как бы состоится - и не состоится. Тотчас после похорон писателя Третьяков признается в письме к Крамскому: "На меня эта потеря произвела чрезвычайное впечатление: до сего времени, когда остаюсь один, голова в каком-то странном, непонятном для самого меня тумане, а из груди что-то вырвано; совсем какое-то необычное положение. В жизни нашей, т.е. моей и жены моей, особенно за последнее время, Достоевский имел важное значение. Я лично так благоговейно чтил его, так поклонялся ему, что даже из-за этих чувств все откладывал личное знакомство с ним, хотя повод к тому имел с 1872 года... Я боялся, как бы не умалился для меня он при более близком знакомстве; и вот теперь не могу простить себе, что сам лишил себя услыхать близко к сердцу его живое сердечное слово".
Про "око духовное"
Но задолго до этих признаний Третьяков скорей всего держал в руках журнал "Время" - Федор Михайлович Достоевский, только что возвратившийся из ссылки в Петербург, издавал его вместе с братом, Михаилом Михайловичем. Трудно поручиться, что все статьи писателя, помещенные в журнале, Третьяков читал со вниманием, но некоторые, где остро и горячо говорилось об искусстве, должен был прочитать; одну же (напечатанную без подписи) обязательно прочитал - она до его главного дела имела прямое касательство: "Выставка в Академии художеств за 1860/61 год".
Осенью 1861 года Третьяков покупает картину Якоби "Привал арестантов" - существенное приобретение для тогдашнего, еще не слишком обширного его собрания. На академической выставке, пишет той же осенью в статье Достоевский, перед этой картиной с утра до вечера стоит толпа зрителей - "ни перед одною более картиной нет такой постоянной толпы". "Приговор публики не заключает в себе ничего неопределенного или двусмысленного: дело ясно - картина нравится более всех остальных на нынешней выставке". Но Достоевский решительно расходится с общим мнением...
На холсте - партия арестантов на привале. Привал сделан поневоле - сломалась телега. На телеге лежит покойник - судя по виду, это не бродяга, не вор, не убийца: скорей всего - "политический". Умер он совсем недавно. С ног еще не сняты кандалы. Этапный офицер, чтобы удостовериться в его смерти, приоткрывает глаз умершего. Левая рука покойника свесилась с телеги. А под телегой, перегнувшись самым неестественным образом, потому что там тесно и неловко, устроился другой арестант и тащит с пальца покойника перстень. Жизнь этапа между тем идет своим чередом. На первом плане картины старик в лохмотьях осматривает рану на ноге, натертую кандалами. Слева - женщины с детьми. Чуть поодаль - несколько арестантов играют в карты.
"Картина поражает удивительною верностью, - свидетельствует Достоевский. - Все точно так бывает и в природе, как представлено художником на картине, если..." - и вот тут-то, в этом "если", в том, что следует после него, самое главное: "Если смотреть на природу, так сказать, только снаружи". "Зритель действительно видит на картине г. Якоби настоящих арестантов, так как видел бы их, например, в зеркале или в фотографии, раскрашенной потом с большим знанием дела. Но это-то и есть отсутствие художества".
Про отличие художества от фотографии Достоевский еще не раз будет размышлять. Но уже и здесь произнесет очень важный приговор: сумма фотографически точно перенесенных на холст подробностей не составляет художественного целого. (Он, правда, и "фотографическую неверность" в картине обнаружил: "Арестанты в кандалах... а все без подкандальников. Будьте уверены, что не только нескольких тысяч, но даже одной версты нельзя пройти без кожаных подкандальников, чтоб не стереть себе ногу. А на расстоянии одного этапа без них можно протереть тело до костей".)
Художник, выводит Достоевский, должен видеть природу не так, как видит ее фотографический объектив, а как человек: "В старину сказали бы, что он должен смотреть глазами телесными и, сверх того, глазами души, или оком духовным".

Но око духовное, проникновение в мир каждого изображенного на холсте человека, в суть изображенного события заставило бы живописца совершенно изменить замысел. Не понаслышке - по собственному печальному опыту зная арестантские этапы, досконально изучив нравы каторжан (писатель расскажет о них в "Записках из Мертвого дома"), Достоевский исследует возможное поведение выведенных художником действующих лиц в заданных обстоятельствах и доказывает, что оно было бы совершенно иным, чем представилось Якоби; следовательно, коренным образом изменился бы и сюжет всей картины.
В статье "Выставка в Академии художеств"Достоевский говорит и о другой картине, Третьяковым на той же выставке купленной, - о "Последней весне" Михаила Клодта. Удивляться совпадениям, тому, что Достоевский о тех картинах пишет, которые приобретает Третьяков, не приходится: оба, каждый по-своему, останавливают внимание на самом заметном.
Художник Клодт изобразил девушку, умирающую от чахотки, в кресле у окна. Тут же в комнате ее родители, сестры. И снова Достоевский говорит о "двух правдах". Все верно в картине, но, закрепив красками на холсте минуту умирания молодого существа, художник увековечил эту минуту, остановил время. Имеет ли право художник принудить зрителя вечно созерцать процесс умирания?.. "Вся картина написана прекрасно, безукоризненно, но в итоге картина далеко не прекрасная"...
Нравятся Третьякову эти рассуждения, нет ли - он вроде бы от первоначального своего мнения ни о Якоби, ни о Клодте не откажется, - но статью он определенно читает, обязан читать: идея собирательства в ее окончательном, общественном значении только-только вызрела, и он чутко прислушивается ко всякому серьезному разговору о русской школе живописи.
"Тут все правда"
В статье Достоевского еще имена упомянуты, для Третьякова не безразличные, "жанристы не в шутку" Шильдер и Перов.
Николай Густавович Шильдер - автор небольшой жанровой картинки "Искушение": картинка Третьякову куда как дорога - она у него первая, с нее-то и положено начало собиранию русской живописи, с нее галерея началась!..
К Василию Григорьевичу Перову, на той академической выставке еще начинающему путь в искусстве, Третьяков тоже присматривается. Картина Перова, о которой пишет Достоевский, называется "Проповедь в селе" - толпа в церкви, впереди, развалясь в кресле, спит помещик, рядом с ним молодая жена его любезничает с поклонником, позади домочадцы, слуги, а вокруг крестьяне - мужики, бабы, дети, - хмуро, недоверчиво, взволнованно или безразлично слушающие священника; текст на церковной стене: "Несть бо власти, аще не от бога". Картина получает в статье Достоевского сжатую, но безоговорочно лучшую оценку: "Проповедь в селе" г. Перова отличается очаровательною наивностью. Тут почти все правда, та художественная правда, которая дается только истинному таланту..."
"Проповедь в селе" - далекий первый шаг, за десять лет, с той поры минувших, Перов становится едва ли не первейшим из живописцев русской школы, о которой так неусыпно заботился Третьяков; полотна его всем и повсеместно известны.
 |
 |
 |
Достоевский, узнав, что писать его портрет собирателем назначен Перов, сразу вспомнит "Сельский крестный ход на Пасхе", "Чаепитие в Мытищах", "Приезд гувернантки в купеческий дом", "Тройку". Об этом позже расскажет жена писателя, Анна Григорьевна.
 |
 |
 |
Среди названных картин нет "Охотников на привале", а в то время она всех больше гремела. Когда Третьяков просит Достоевского позировать для портрета, вокруг только и разговоров, что о новом могучем объединении художников, проповедующем искусство народное и национальное: прошло лишь несколько месяцев со дня открытия Первой Передвижной выставки - событие громадное, - мог ли Достоевский его не приметить!
На Первой Передвижной Перов как раз и показал "Охотников". Зрители в большинстве встретили картину восторженно. Раздавались, однако, и критические голоса. Салтыков-Щедрин, к примеру, не находил в "Охотниках" столь дорогой непосредственности, ощущал некоторую ее расчетливость, надуманность: "Как будто при показывании картины присутствует какой-то актер, которому роль предписывает говорить в сторону: вот этот лгун, а это легковерный. Таким актером является ямщик, лежащий около охотников и как бы приглашающий зрителя не верить лгуну-охотнику и позабавиться над легковерием охотника-новичка. Художественная правда должна говорить сама за себя, а не с помощью комментариев и толкований". Достоевский - уже после знакомства с Перовым, после портрета - печатно похвалит "Охотников" и скажет о них нечто прямо противоположное тому, что сказал Салтыков-Щедрин, назовет "одной из понятнейших картин нашего национального жанра", и пояснит: "Картина давно уже всем известна... Один горячо и зазнамо врет, другой слушает и изо всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется... Что за прелесть!"
О том, что писать его портрет Третьяков поручил перову, Достоевский узнает из письма собирателя от 15 апреля того же 1872 года:
"Милостивый государь Федор Михайлович.
Душевно благодарен вам за ваше доброе согласие. Вышло так, что когда получил я ваше письмо, то избранный мною художник В. Г. Перов не мог уже поехать в Петербург по разным обстоятельствам, и вот только теперь можно назначить предварительно отъезд его - в конце сего месяца; пишет он скоро, и потому до 10 мая портрет непременно может быть готов...
Москва
Апреля 15 дня 1872"
Письмо Достоевского не сохранилось, но содержание его понятно из третьяковского ответа: писатель согласен позировать для портрета, но просит закончить работу в первой декаде мая. Достоевский торопится в Старую Руссу, где намерен провести лето; в те же дни он пишет своему родственнику: "Мы думаем, если все удастся, переехать даже в самом начале мая, еще до сезона, который открывается в С. Русе 20-го мая. Ужасно надо переменить воздух хоть на три месяца, особенно для детей".
В двадцатых числах апреля Василий Григорьевич Перов приезжвет в Петербург.
