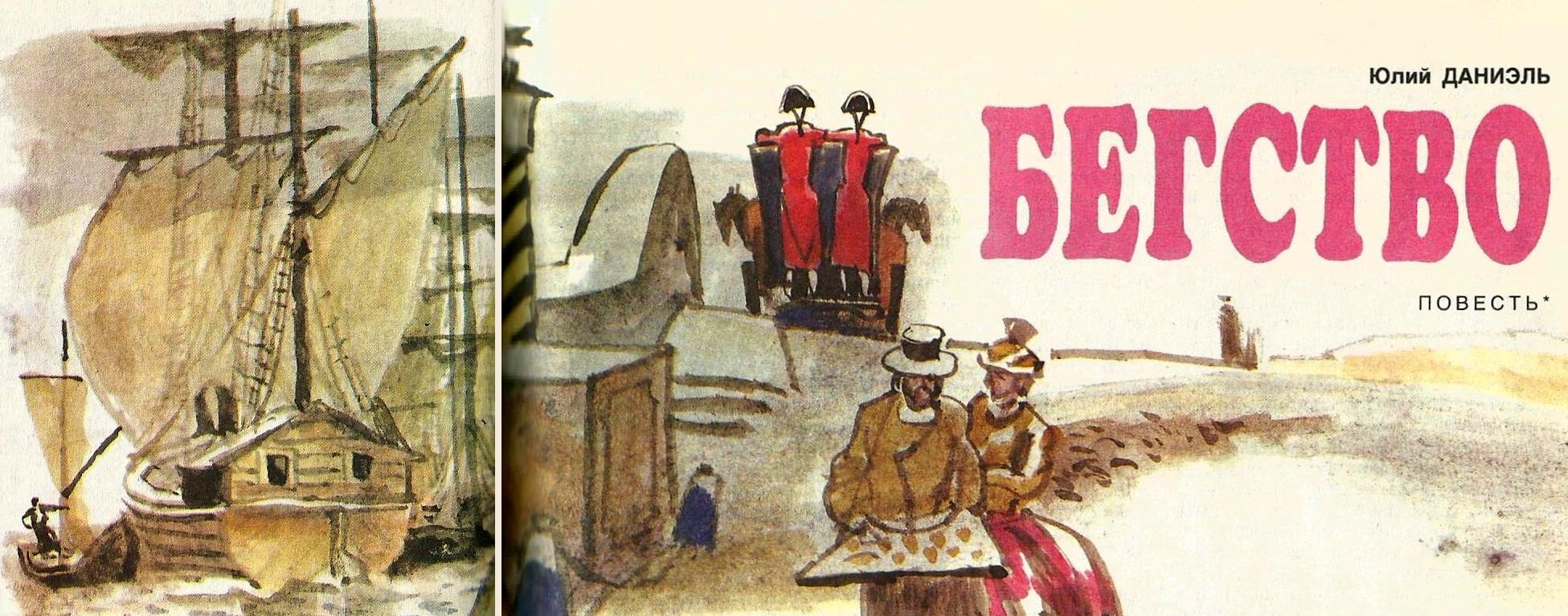
Рисунки М. Петрова
Юлий Даниэль
БЕГСТВО
Смотрины в гостиной
1
Разумеется, не все и не так рассказал Шувалову Свешников. О многом умолчал, многое изменил.
Шувалов расхаживал по кабинету. Рассказ Свешникова взволновал его. Все чаще за последние годы сталкивался он с талантливыми простолюдинами. Он привык гордиться своей способностью находить и "шлифовать" их. Каждая такая находка еще более упрочивала его славу мецената, еще более укрепляла репутацию прозорливого человека. В самом деле, из безликой и темной толпы плебеев выбрать человека, от всех отличного, - это ли не заслуга? Но много их, слишком много. А над этим стоит призадуматься. А может быть, и заслуги-то нет? Может быть, он уподобляется человеку, запускающему руку в ларец с драгоценными каменьями? И гордиться нечего: не ошибешься, всякий раз сокровище вытащишь. Российский народ не есть ли драгоценный клад камней разнообразных? Клад, доселе никого не прельстивший? Есть, есть над чем поразмыслить...
- Друг мой, а не время ли тебе перестать крестьянствовать? Грешно с такими познаниями землю ковырять, я тебя определю в университет, переводить будешь, - Шувалов вопросительно посмотрел на Свешникова.
Тот молчал.
- Что же ты молчишь - говори... или не по душе такая работа?
- По душе, да только не для меня это.
- Отчего?
- Да так, не смогу я, сударь.
- Ну-ну, не прибедняйся! Как это "не смогу"? Я чаю, мужицкая работа не слаще.
- Не слаще, это так... да только у нас работа - ешь по нужде, а с нею не поспоришь. А там по людской указке придется. А с людьми можно спорить.
- Ну и что ж?
- Да... - Свешников замялся, но докончил: - Знаете, сударь, поговорку: "Судился волк с кобылой...". С нашим братом спор короткий.
- Вот оно что, - раздумчиво протянул Шувалов, - ну ладно, неволить не стану, но только скоро от себя не отпущу, не жди. Поживи у меня, оглядись, может, и передумаешь.

2
В зале пахло медом. Необъяснимый этот запах мешал Свешникову. Он почувствовал его, как только остановился в дверях, распахнутых чинным слугой. Прямо с порога он поклонился, еще не различая лиц, увидел группу людей, сидевших и стоявших подле Шувалова. Все они с любопытством уставились на него; он, повинуясь кивку Шувалова, медленно подошел и остановился; гости негромко, но и не понижая голоса, обменялись мнениями: "А он недурен, пожалуй", "Косолап", "Робеет"...
- Вот, друг мой, эти господа желают с тобой побеседовать, - сказал Шувалов.
Свешников молчал.
- Поклонись, - громко прошептал молодой человек с очень белым лицом и быстрыми глазами.
Свешников поклонился.
Заговорила, вздергивая коротенькие черные брови, смуглая дама:
- Я слыхала, дружок, что ты разумеешь латынь и французский?
- Разумею, сударыня.
- Ваше сиятельство, - подсказал белолицый: это была Екатерина Романовна Дашкова.
- Ваше сиятельство, - послушно повторил Свешников (откуда же, однако, пахнет медом?).
- Так почитай мне, дружок. А мы послушаем, каковы познания твои, - благосклонно произнесла дама. - Иван Иванович, пусть он Руссо прочтет. - И по-французски добавила: - Это будет гармонично: крестьянин, читающий Руссо.
Лев Федорович, вели принести сюда " De L'inegalite parmi les hommes", сказал Шувалов белолицему. - Да нет, что ж это я - они не найдут, потрудись-ка, голубчик, ты ведь знаешь где.
- Слушаю-с. - Молодой человек, поклонившись, вышел.
- Признаться, я с трудом верю, что он что-нибудь сможет, - продолжала дама, кивнув подбородком на Свешникова. - Наш Иван Иванович, как всем ведомо, патронирует мужиков.
- Но, Екатерина Романовна.., - начал было Шувалов.
- Ах, Иван Иванович, я наперед знаю, что вы скажете: "Добродетели и таланты, Минин и Ломоносов". - Дашкова на мгновение поджала губы. - Я вот, как изволите знать, только что Круглово посетила, государынин подарок; так вот, они там и с людьми-то едва сходны: ленивы, пьянство открытое.., свинство...
У Свешникова затекли ноги, новый кафтан жал под мышками и воротник тер шею. Странно: давеча, когда примерял и носил, все впору было. Он стоял подле кресел в неловкой позе, глядя на лоснящийся паркет. Ага, вот откуда запах: пол натерт воском. Он, Свешников, тоже здесь вроде воска, для блеску. Доброе чувство к Шувалову куда-то исчезло. Он поднял голову; Шувалов, улыбаясь полными губами, добродушно слушал излияния смуглой дамы - "ее сиятельства".
- Ах, вот и Руссо! Ну, любезный... - Дашкова наугад раскрыла книгу и пометила ногтем: от сих...
- "Не по униженности народа, властями угнетенного, должно судить о том, к чему люди склоняются; за рабство или противу его, но по чудесным делам, какие делали все народы, чтобы себя от притеснений защитить".
- Изрядно... Перекинь-ка, дружок, страницу, читай здесь...
- "...Но подданные не могут таких родительских милостей от своего деспота ожидать, ибо и они ему принадлежат, и имущество их - так он сам твердит..." - Свешников переводил сразу, пробегая глазами французский текст про себя. Он читал медленно, но не останавливался и не поправлялся. - "Он творит суд, когда грабит их; он милосерден, если оставляет их живыми..."
- Остановись, читай по-французски, - скомандовала Дашкова.
Свешников начал читать, и толстяк Перепечин, напряженно слушавший перевод, вздохнул чуть ли не с облегчением: в этом мужицком переводе возвышенный гнев и тяжеловесная ирония сумасбродного женевца звучали как-то... как-то чересчур по-русски, вроде бы здесь, в России, родились. Между тем одно - дружески беседуя в своем кругу, толковать об острословии далекого философа, и совсем иное - ежели в его, Перепечина, смоленском имении такой разговор пойдет, несносный матерьялизм черни всем известен. Она философский камень в булыжник обратит, профессорскую указку - в дубину.., кстати, и выговор у этого молодца не чист.
- Ну, изрядно, - промолвил кто-то из гостей.
А Дашкова с живостью подхватила:
- Изрядно, изрядно. А что же ты, любезный, скажешь об этом? Как тебе слова руссовы показались? Правду он говорит?
Все поощрительно и с любопытством смотрели на Свешникова.
"Они на меня, как ротозеи на цыганского медведя, глядят, как он артикул палкой делает", - вдруг отчетливо и гневно подумал он и сказал:
- Правду. - Он вдруг, себе на удивление, совершенно успокоился. - Правду, да не всю.
Он поднял глаза и неторопливо оглядел собравшихся. Пудреные лица, холеные руки, баре - что они о неравенстве знают?
- Я так полагаю, что Руссо мудр, когда неравное состояние людей ругает всячески. Прав он и когда свободу почитает за самое драгоценное состояние человека, но не прав, когда в просвещении, науках и искусствах видит зло и от них производит усиление рабства. - Теперь он стоял в свободной и непринужденной позе, заложив руки за спину, разглядывая гостей. - К просвещению стремиться должно всякому, а что не часто простой народ грамотен и за штоф чаще, чем за книгу, берется, - Свешников в упор посмотрел на Дашкову, - то не его в том вина. Жизнь сельская, не в укор Руссо будь сказано, полна обид и тягот.
Наступило молчание, слова Свешникова были дерзкими. Лицо Дашковой пошло красными пятнами. Мужие отнесся к ней! Еще несколько мгновений - и она не выдержала бы, сорвалась, но в это время раздался тенорок Каменецкого, домашнего лекаря:
- Где ты приобрел свои познания? - спросил он по-латински.
- Добрые люди и любознательность были моими наставниками, - подумав, по-латински же ответил Свешников.
Дашкова, переведя дух, откинулась на спинку кресла, все прошло, она вспомнила: она философка, переводчица Вольтера, мыслитель нелицеприятный... А он и в самом деле недурен, этот "женьом", "добрый молодец": серые глаза глядят насмешливо, в плечах широк, стан прямой, ноги стройные... таким бы и августейший дружок, Екатерина, не побрезговала. Может, обмолвиться ей невзначай? Улыбнувшись, Дашкова отогнала игривые мысли.
- Пусть он сядет, - сказала она милостиво.
Еще с полчаса гости беседовали со Свешниковым, вслух дивясь его учености. Шувалов благодушно посмеивался, а испытуемый, словно не замечая оскорбительного изумления, вежливо отвечал, руки благонравно на коленях сложены, только сильные пальцы по временам добела стискивали друг друга. Когда его наконец отпустили и он очутился в своей комнате, то, легши на постель и закинув руки за голову, долго лежал неподвижно, уставившись в потолок, следя глазами тонкие трешины побелки. Что, собственно, происходит? Кто он здесь? Ученый тверской мужик, диковина - перед гостями хвастать? Такого, как он, иной давешний собеседник изволит учить по роже барской ручкой! За незажженную трубку, за измятое жабо... Да мало ли что! Уехать... А книги! Да во всю жизнь ему тогда не увидать таких книг, где учиться, как не здесь! Тут он и разговаривать стал по-иному - так, как учили его Хвылянский и книги. В деревне не с кем так говорить. А то уж над ним смеялись: вот уж, ворон отстал и к павам не пристал! Да и павы-то эти хороши...
На другой день Свешников сказал Шувалову, что хочет писать труд по древней истории, и попросил у него работы здесь, в доме. Шувалов был не в духе: один из вчерашних гостей сообщил ему секретно, что Григорий Орлов опять говорил о нем неделикатно, а государыня на это улыбнуться изволила. Он-то, Шувалов, знал, что бывает после таких улыбок... Он буркнул в ответ Свешникову:
- Живи здесь, пиши, читай, а коли будешь надобен, скажу. - И, смягчая свою резкость, длбавил: - Денег своим в деревню пошли, у Бернара возьмешь - я велел...
Когда два дня спустя княгиня Дашкова вызвала к себе Свешникова и предложила ему место при академии ("Ты будешь работать только для меня, дружок!"), то Свешников очень почтительно, но твердо отказался, сославшись, что не может с Иваном Ивановичем, "благодетелем", расстаться.
Тверская диковина
1
Лиза, Лизонька... Собственно, ее звали Лизеттой. Легкие, почти невесомые пряди ее светлых волос паутинкой ложились ему на щеку, на уголки губ, он сдувал их. У нее было совсем детское лицо, если бы не улыбка: когда она улыбалась, лицо ее сразу становилось знающим. усталым. Отец ее был швейцарцем; заводные игрушки, которые он мастерил на родине, оказались довольно ходким товаром в Петербурге. Он красил их в яркие цвета: синий, желтый, белый. Это были цвета швейцарского пейзажа, и были цвета ее детства.
О своем детстве, впрочем, она говорила мало и совсем неохотно рассказывала о юности. С пятнадцати лет она, по ее словам, кочует из одного барского дома в другой и шьет белье. Рукодельница-мать обучила ее, и теперь ей неплохо платят за труды. Вот и все. "Но что нам до того?"
Как это случилось? Он сидел у окна маленькой комнатки, отведенной ему в шуваловском доме, и делал картину из соломы - вид с перспективой и мельницей на переднем плане. Недавно с Шуваловым был разговор о ломоносовской мозаике; Иван сказал, что умеет делать виды из соломы, и хозяин загорелся, обрадовался, велел приступать. В этот день Лиза вошла, не дождавшись ответа на стук, когда он, чертя соломиной по оконному стеклу, что-то бормотал неразборчиво. Она подождала, он не оборачивался, тогда она снова постучала ногтем по двери - с этой стороны. Он обернулся. На нее растерянно смотрели узкие серые глаза, а смуглая кожа щек потемнела от нахлынувшего румянца: она слышала, как он бормотал!
- Вот рубашки, - проговорила она, улыбаясь, и вдруг, миновав его, легкими шажками подошла, даже подбежала к начатой картине, где уже крестом темнели крылья мельницы: - Что это?
- Это не окончено, - ответил он.
Она замеялась, кинула рубашки ему на плечо, потом, постукивая каблучками, прошлась по комнате.Он завороженно следил за нею.
- Меня зовут Лизетта, - четко, как будто читая написанное, сказала она.
- Заканчивайте свою работу скорей: я смотреть приду.
Он смотрел на дверь, за которой она скрылась. Погладил щекой рубашки, все еще лежавшие на плече. Бережно сложил их на стул, потом хмыкнул коротко, сел к окну, взялся за работу. Поработал минут десять и долго, с великим удивлением, как чудо какое, разглядывал дверь.
Она пришла к нему еще раз и еще. А когда он наконец-то закончил картину, Лизетта не стала ее смотреть...
Он уже третий месяц исправлял должность шуваловского секретаря: Лев Федорович Людоговский, белолицый молодой человек, уехал куда-то на короткое время да задержался. Шувалов диктовал Ивану бумаги. Велел разбирать старые письма, которых за десятилетия скопилось множество. Однажды листок без начала и конца попался ему в руки - письмо, написанное по-французски мелким почерком; небрежные перекладины "Т", как крючок рыболовный, ныряют вниз; отдельно стоящие буковки складываются в четкие слова: "Мы послали вам свое благословение...".
- Чье это? - спросил он Шувалова.
Тот, взяв в руки и пробежав глазами несколько строк, бережно запер в особую шкатулку, где хранил дорогие ему сувениры. Потом с расстановкой произнес, значительно подняв палец:
- Это Вольтер, мой друг. - И, подчиняясь какому-то своему ходу мыслей, заговорил о Ломоносове уже в который раз; он сказал, что Ломоносов есть пример для подражания.
- Не всякому даны такие разнообразные таланты в себе соединить, - возразил Свешников.
- А я и не говорю, что ему подражать следует в разнообразии, но ежели каким одним талантом одарен, то употребить его должно по-ломоносовски. И подумав, добавил: - А за всем тем и другие таланты объявятся. - Он стал, опершись на плечо Свешникова, придавил его к стулу. - Скажи-ка, друг мой, ты стихи не пробовал ли сочинять?
- Пробовал. - Свешников сконфуженно усмехнулся.
- Ну и что ж?
- Хвалиться нечем, Иван Иванович. Полигимния не любит меня, а только терпит.
- А прочти-ка мне...
Иван прочел. Шувалов очень внимательно поглядел на него и сказал:
- Что ж ты клеплешь на себя? Можешь... только предмет неудачный выбрал. Любовь нужно легко изображать, avee enjousment, как это по-русски: игриво. А у тебя слог важный, штиль высокий. Вот что: возьми-ка ты из Библии что-либо переложи; этим и Михайло Васильевич не гнушался. Подай-ка мне Библию. Так... ну-ка, наудачу! Вот... нет, не годится... еще раз, ага, вот это, пожалуй, подойдет, смотри: "Благословите, всякий дождь и росы Господа, пойте и превозносите его... Благословите, холод и зной Господа..." Это из книги пророка Даниила.
- Я знаю, - задумчиво произнес Свешников. - Трудно... - И, опережая нетерпеливое движение Шувалова, докончил: - Но я попробую.
За сочинением этих самых стихов застала его, бормочущего, Лизетта в самый первый день их знакомства.
И вот стихи готовы. Свешников переписал их набело, стал читать вполголоса, хороши они или нет? Получилось совсем не то, что говорил Шувалов. Да и он, Свешников, не думал, что так получится:
Молитв вместилище ярится
Дерзаньям воздвигать предел...
"Гм, "молитв вместилище"... Ну что ж, правильно - церкви есть вместилища молитв. Все-таки "вместилище" - сомнительно. Храм - "молитв вместилище", суд - "вместилище законов", - Свешников усмехнулся: "Кошелек - вместилище денег..."
А чего он, собственно, усомнился? Ну вместилище, ну дерзко - и что из того. А дальше разве лучше? Все равно стихи напечатаны быть не могут. Свешников засмеялся и с удовольствием прочел вслух полным голосом:
...Разумный статус государства
И просвещенное державство -
Натуре свойственный закон -
Сие религии основа,
Что восхваляет всеблагого
Превыше храмов и икон.
"Да, навряд Шувалов похвалит. Хоть и крестится вольнодумно: мелким крестом у груди, библейское-то прославление Бога сохранилось, но и порицание церкви прибавилось...".
 В дверь поцарапвлись. "Лизатта!" Свешников метнулся к даери, распахнул ее; Лизетта стояла у порога и скребла ноготком притолоку; Он подхватил ее на руки, закружил по комнате.
В дверь поцарапвлись. "Лизатта!" Свешников метнулся к даери, распахнул ее; Лизетта стояла у порога и скребла ноготком притолоку; Он подхватил ее на руки, закружил по комнате.
- Дверь, - сказала Лизетта, теребя его за волосы.
Он посадил ее за стол (какая-то книга упала на пол, у стенки), закрыл дверь и нагнулся над книгой. Лизетта держала кончиками пальцев листок со стихами.
- Что это, чье? - спросила Лизетта.
Это мои стихи! - гордо объявил Свешников. Он сам немножко конфузился своей гордости: - Хорошо?
Лизетта молчала.
- Хорошо ли? - уже тревожно спросил он.
- Не знаю, - медленно выговорила она. - Здесь против церкви... поплатиться можно...
- Но ведь я не собираюсь их нигде помещать.
- Так зачем ты написал их? - возразила она рассудительно.
Свешников рассказал, как было дело. Лизетта, выслушав его, задумчиво покачала головой.
- Тебе стихи не нравятся, - уныло произнес он.
- Я их, милый, не очень понимаю: они слишком умны для меня. Только я боюсь: они могут тебе повредить.
Она подняла с колен листок со стихами и четко сказала:
- "Превыше храмов и икон"... боюсь...
- Знаешь что... возьми этот листок себе. Когда-нибудь, - он усмехнулся застенчиво и гордо, - когда-нибудь я подарю тебе книгу настоящую, напечетанную.
- Не надо, что ты! Я не должна их брать.
Если бы Свешников посмотрел ей в лицо в этот момент, он непременно спросил бы, отчего она так испугалась: она побледнела, губы сжались; но он глядел на свою рукопись, лежавшую на краю стола. В ответ на ее восклицание он засмеялся и сказал:
- У меня вчерне записано. Да я так их помню - бери.
Стихи разошлись по Петербургу на диво быстро. Шувалов велел сделать с них список и с удовольствием читывал их вслух у себя в доме и в других домах, где бывал. Вольнодумство было в моде.
В самом деле, неужели нельзя обойтись без утомительных церковных служб, без поясных поклонов, без всех этих варварских обрядов? То есть для простолюдинов-то церковь необходима, она им в утешение. Но ведь речь не о них. Российские патриции, вкусившие от европейского просвещения, церковный ладан не жаловали.
Стихи понравились, их заучивали наизусть, чтобы щегольнуть в разговоре, переписывали, знакомым посылали. О сочинителе Шувалов промолчал, только ухмылялся лукаво, когда спрашивали; впрочем, знающих стихи вскоре стало так много, что все забыли, кто первый пустил их в обществе; случалось, что самому Ивану Ивановичу приносили их как новинку.
_____________________________
* Журнальный вариант
Ист. журнал "Пионер"
1980-е
