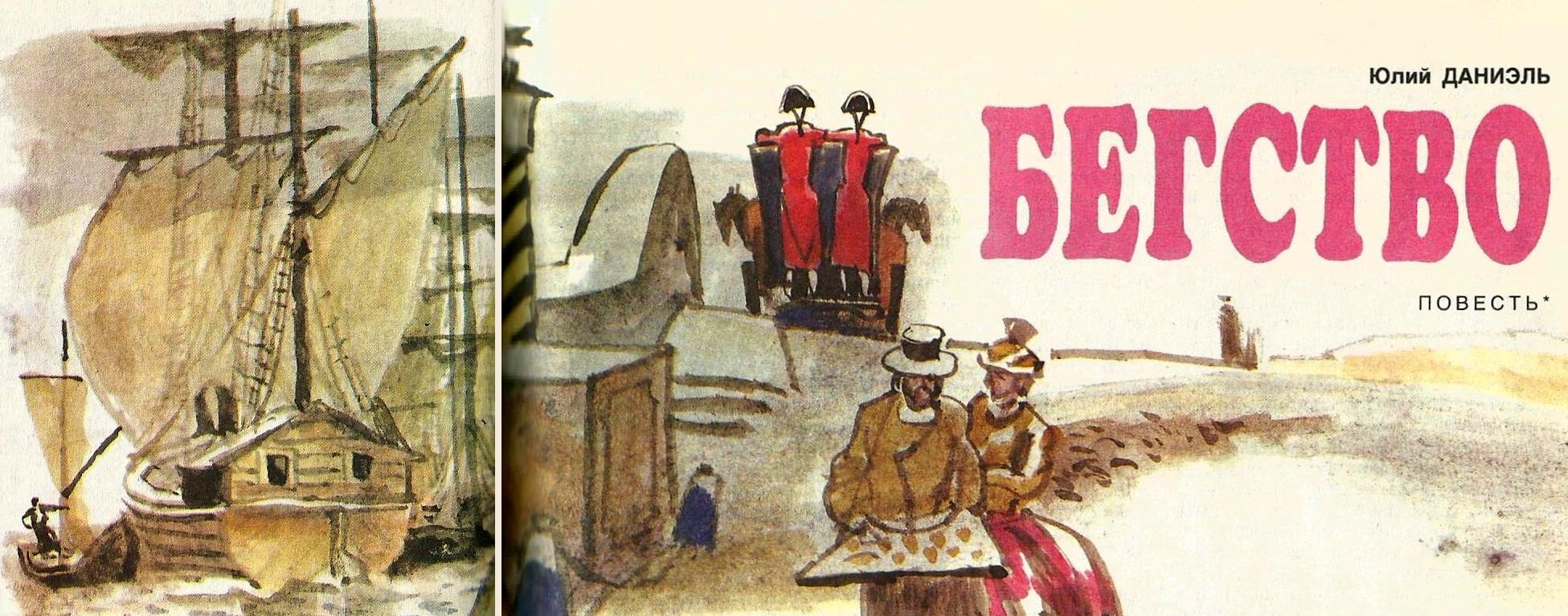
Рисунки М. Петрова
Юлий Даниэль
БЕГСТВО
Ночь над деревней
1.
Отец Николай был не столько стар, сколько дряхл, ему было всего лет 60, но бодрость ушла, церковная служба давалась ему с трудом, казалось, что облачение тяжело давит на плечи, а спертый воздух церкви вызвал у него сердцебиение и головную боль.
Отец Николай служил торопливо, неблаголепно. "Частит батюшка", - неодобрительно говорили о нем зажиточные мужики и, перебирая все недостатки отца Николая, сходились на том, что поп нехорош. А недостатков было много: службу правит плохо, беден, курит табак (подглядели однажды), старообрядцам мирволит и в услужение к себе взял Ваньку Свешникова. Правда, когда помер старик Свешников, вдова бедствовала, а Ванька - лишний рот, но все же не пристало пастырю духовному держать в доме старообрядца. Добро бы в истинное православие парня обратил, - так нет, смеется: вырастет - сам, дескать, сообразит, что к чему. А отец Николай был в восторге от своего служителя. На старости лет - утешение, радость. Вскоре после того, как он взял к себе в дом Ваню, затеял от скуки деревенской обучить парня грамоте и был весьма удивлен, узнав, что мальчик читает и пишет очень хорошо. Оказывается, старый Евстратий выучил сына и приохотил к чтению старопечатных книг. Отец Николай учинил мальчику "экзаменацию" и остался доволен. С тех пор ежедневно, справившись с нехитрым хозяйством сельского батюшки, мальчик из служителя превращался в ученика. За полтора года Ваня выучился латыни и уже начал изрядно читать по-гречески.

2.
Отец Николай умер весной.
Как-то сразу подкосила случайная простуда немощное тело священника. Не докончив обедни, он ушел с амвона, с помощью дьячка доплелся до дому, лег и не вставал больше. Вечером поманил к себе Ваню, сказал слабым голосом:
- Ну, вот, Ванюша, помираю... слушай, родной мой, что скажу , и запомни. Тебе учиться надобно, голова у тебя... Книги себе возьми, подрастешь - в Москву иди или в Петербург. Прощай, милый. Бог тебя благослови.
Старик приподнял руку - перекрестить, не смог, уронил высохшую кисть на постель, чуть качнул головой: "Иди...". Пятясь от постели, Ваня увидал полными слез глазами, как зашевелились губы отца Николая, и расслышал невнятный шопот:
- Время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать...
Отца Николая похоронили; отпевал его священник из соседнего прихода. После похорон, вернувшись в домик отца Николая и сняв с себя облачение, он потребовал у Вани ключи; по-хозяйски топая тяжелыми сапогами, прошелся по комнаткам (комья грязи отваливались от сапог и коричневыми следами ложились по выскобленному полу), заглянул в кладовую, хмыкнул неодобрительно. Рылся в сундуках, выбрасывая на пол ветхое бельишко, переложенные табаком - от моли - рыжеватые рясы. Комом запихнул все обратно, захлопнул крышку, запер, подошел к низенькому ящику, заглянул - книги, пожал широкими плечами - светские.
- Мне велел батюшка... книги взять мне... перед смертью сказал, - запинающимся голосом проговорил Ваня.
Поп молча покосился на него: подняв ящик, вывалил на пол десятка два книг. Мальчик торопливо принялся рассовывать их по карманам, за пазуху. Поп повернулся и пошел к выходу, прижимая подбородком кипу книжек. Ваня двинулся за ним. Вышли на улицу. Прислонившись к крыльцу, Ваня смотрел, как поп неторопливо подошел к тележке, открыл дорожный сундучок, достал замок, так же не спеша вернулся к крыльцу, замкнул двери на замок, спрятал связку ключей, сел в тележку, разобрал вожжи и, так и не сказав ни слова, уехал. Через неделю приехал новый священник - отец Андриан, зять соседского батюшки...
3.
Когда жив был отец Николай, семья Свешниковых кое-как сводила концы с концами: священник то муки подбросит, то из солений чего-нибудь, теперь же помощи ждать было неоткуда, и Ваня впрягся в трудную крестьянскую работу. Село было большое: хозяев, господ в нем не было, все были государственные.
- Мы люди вольные, свободные, над нами хозяева - царица да господь Бог, - не однажды бахвалился спьяну Ермолай Ковшов, староста, местный богатей.
И точно, воля была: наживай деньгу, то похитрее да поизворотливее, лезь в петлю, у кого на аренду не хватает. Замучило малоземелье. Трудно жилось: отдай подушную, заплати налог, исправь повинности - дорожную, подводную, барочную... Да разве перечтешь! А горше всего была доля - неверная, непрочная, обманчивая. Сегодня - государственный, а завтра - барский раб, щедро платила императрица за дворянские услуги - того и гляди, охомутают, подарят вместе с землей Петербургскому барину. И чем ей, матушке, так дворяне угодили? Говорят, на престол помогли сесть? А кому про то ведомо...
Ваня работал: пахал, сеял, собирал, молотил; чинил рассыпающийся домишко; тянул вековечную мужицкую лямку изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Податей на них, старообрядцев, полагалось вдвое больше обычного... Жалость охватывала его, когда глядел он на худенькие лица братишек, когда вдруг замечал жилистые, натруженные руки матери. Вечером, поднимая тяжелую голову от книги, смотрел непонимающими глазами на убогую утварь, не черные стены. А в ушах все стоял лязг щитов и мечей, отрывистая команда центурионов, топот тысяч солдатских ног по пыльным дорогам - Ваня читал "Записки о Галльской войне".
Рим! Единственный и неповторимый, где он сейчас? Почему сгинули, историей, анекдотами стали и цепкая рука Цезаря на горле мира, и овации трагическим актерам за удачно сказанный монолог, и свирепый рев форума - огромной толпы, с веселой жестокостью решавший судьбы людей и держав. Почему склонились золотые орлы перед грязным варваром, одетым в пропотевшую овчину? Или кровь сломленных народов, окрасившая пурпуром римские тоги, причина тому?
- Ваня!
- А!
- Пойди, тебя мужики кличут.
Ваня привычно пригнувшись у низкой притолоки, вышел за порог. У избы стояли двое.
- Слышишь, Иван, - заговорил один из мужиков, хмурясь, - там указ пришел, повинность, слышь, надбавили нам, полтина лишку против прежнего выходит. Так ты, парень, прочел бы нам, грамотен ведь.
- А нешто вам его раньше не читали?
Указ действительно был; денежную земскую повинность для черносошных увеличить в этом трехлетии на пятьдесят копеек с души. И указ этот был зачитан старостой Ермолаем Ковшовым перед всем миром. Теперь же сосед просил его, Ваню, прочесть указ, да еще и объяснить ему, в чем там суть, будто Ваня сам и не знал.
- Читать-то читали, да кто читал - Ковшов! Может, там и не полтина, а гривенник указанный, а он прочел: полтина! Ты уж прочти, а, Иван!
- А где ж он, указ-то?
- У меня, парень, у меня, дома лежит.
- Мы Ермолаеву сыну, Гришке, поднесли малость, так он у отца-то взял на часок, - таинственным хриплым голосом пояснил второй крестьянин, оборванный тощий старик.
- Ну, ладно, идемте, что ли, - Ваня медленно зашагал к соседской избе.
На другой день Ваня встретился на улице с Ковшовым. Увидев Ваню, староста снял шапку, низко поклонился, коснувшись рукой ноздреватого снега.
- А, ваше благородие! Не прикажи казнить, прикажи миловать. Проверочку, стало быть, сотворили? - Он выпрямился. - Щенок! Гаденыш сопливый! Ты что? Проверять? Меня? Да ты... - Он скверно выругался. - Ну, погоди! Ты у меня попомнишь проверку! Я тебе покажу, грамотею...
Кто-то проболтался, ясно. Ваня повернулся и пошел домой.

Вечером неожиданно и властно застучали в дверь. Мать открыла и, растерявшись, попятилась. Не обтерев ног, не сняв шапок, в избу ввалились Ковшов, двое мужиков из богатеньких и, наконец, подбирая полы тяжелой шубы, через порог осторожно переступил отец Андриан, священник.
- А ну, еретик, где у тебя книги-то? - заговорил отец Андриан.
- Какие книги? - упавшим голосом спросил Ваня.
- Какие, какие! Богохульные, староверская твоя рожа! - заорал Ковшов.
- Да вот они, - пробасил один из мужиков и шагнул в угол.
Там на самодельной деревянной полочке стояли книги покойного отца Николая.
Поп подошел, брезгливо растопыренными пальцами взял одну книгу:
- Латынщина...
- Не троньте! Мне их отец Николай завещал, - рванулся Ваня, но Ковшов грубо толкнул его в бок.
- Ты что же, на меня, пастыря духовного, глас подъемлешь? Ох, не тем будь помянут покойник, мудрость-то евангельская в небрежении была. Сказано: не мечи бисер перед свиньями, да не попрут его. Грамота избранным потребна, не хаму. - Отец Андриан покосился на книги. - Сжечь!
- Не дам!
Ваня схватил с лавки толкач.
- Ванюшка, нас-то пожалей! - не своим голосом вскрикнула мать.
И Ване мгновенно представилось: его забрали, а мать с маленькими идет вдоль какого-то чужого села, просит корку... Он оглянулся, мать стояла, вцепившись темными пальцами в край стола, испуганно и зло глядели с печки братишки. Он с отчаянием бросил на пол толкач, сел на лавку и уткнулся головой в колени.
4
Григорий Хвылянский третий месяц жил в доме помещика Шестоперова. Конечно, Шестоперов предпочел бы нанять в учители немца или француза, но на безрыбье и рак - рыба. А Хвылянский к тому же и дешевле. Что же до его прошлого, и чего он ради, не доучившись, из университета вышел - до того ему, Шестоперову, и дела нет. Учитель и учитель. Хвылянский учил барчука французскому языку, географии и математике. Митенька (так звали сына Шестоперова) оказался мальчиком смышленым и к учению охочим. Много возиться с ним не приходилось. С утра отзанимавшись, Григорий Афанасьевич шел гулять. Забравшись в лес, он выбирал местечко поудобнее, ложился на спину и подолгу глядел на убегающие в небо рыжие прямые стволы сосен. Вспоминалась Москва, шумная толчея университетских коридоров, веселые суматошные пирушки, где чаще пели песни и читали стихи, чем пили водку, где спорили, спорили...
Последняя такая встреча - "ассамблея", как шутя называли студенты свои веселые собрания, - особенно запомнилась Григорию Афанасьевичу: тесная комната, клубы табачного дыма, пьяные выкрики кабацких завсегдатаев за хлипкой перегородкой, разгоряченные лица товарищей и сам он - Григорий Хвылянский, говорит взволнованно и громко:
- Помяните мое слово, хлопцы! Будет время, и никто не попрекнет инородством ни меня, ни хохла, ни башкирина, ни кого иного, скоро будет! И сейчас уже собралось для бою от всяких племен.
- Ты о чем?
- Да все о том же: жгут дворян, и сие жестоко, но справедливо. А кто поднялся? Разные племена, а впереди - русские. Тут что наиглавнейшее, мужики они, и им все едино, кто есть по крови: башкирин или киркиз!
- Прочти свои вирши, Грицько!
Смутно вспоминается Хвылянскому чужое лицо у темной занавески. Был март месяц 1774 года. На другое утро он стоял в кабинете Хераскова, директора университета, поминутно оглядываясь на удобно усевшегося в кресле чиновника, и, обтирая пот шелковым платком, Херасков кричал на Григория:
- Да знаешь ли ты, что такое вино? Вино есть яд. В малом количестве - веселие и врачевание, в великом же - безумие и погибель! Что? - Он выкатил на Хвылянского свои и без того выпуклые глаза. - Ты более не студент! Я изгоняю тебя из университета! - Херасков покосился на чиновника. - Да, изгоняю!
- Сверх того, - ласково заговорил чиновник, - сверх того, сему витии надлежит предстать перед законом, на незыблемость коего он осмелился посягнуть...
- Да, да, - заторопился Херасков, - истинно так - надлежит... надлежит ущерб... э-э... возместить... выйди, Хвылянский, подожди в приемной.
Минут через десять чиновник вышел в приемную и, остановясь перед Григорием, произнес нравоучительно:
- Возблагодарите господа, юноша, и мягкосердечие начальника вашего, и мое, к младости вашей сострадая...
Войдя в кабинет, Хвылянский тихо, но твердо сказал:
- Я не был пьян, Михаил Матвеевич.
- А я говорю тебе: ты был пьян и не помнишь ничего. Ступай, да уезжай поскорее.
Оставшись один, Херасков с сожалением оглядел свой пухлый мизинец, на котором всего лишь четверть часа назад красовался дорогой перстень.
Несколько часов спустя один студент вручил Хвылянскому письмо Хераскова к знакомому помещику и десять рублей на дорогу. Только впоследствии, во время скитаний от помещика к помещику, от барчука к барчуку, Хвылянский уразумел, чем он обязан Хераскову. За эти три года много раз накалялись щипцы - рвать ноздри, багровой сеткой ложились следы батогов на обнаженные спины, и, деловито подтянув халявы, пинком вышибал палач чурбак из-под ног осужденного...
Рядом затрещали сухие ветки, Григорий Афанасьевич повернул голову и увидел парня лет восемнадцати, среднего роста, стройного. Светлый пушок на щеках и подбородке скрывал сухощавость его лица. Узкие серые глаза рассеянно глядели из-под стриженных в скобку русых волос. Паренек немного постоял, сел на хвою, привалился поудобнее к широкому стволу и, оглянувшись, достал из-за пазухи книжку.
- Бог помочь!
Парень вскочил на ноги, его задумчивое, даже несколько девичье лицо сразу изменилось: около рта легли резкие складки, брови упрямо сошлись, зло заблестели глаза.
- Читаешь? Грамотен? Что ж это у тебя?
- Не троньте!
Хвылянский опустил протянутую руку.
- Ишь ты, кочет! Я ж тебя по-хорошему спрашиваю, я и сам до книг охотник, вот, смотри.
Григорий Афанасьевич достал из кармана потрепанную книгу, откинул переплет:
- Прочти-ка.
Парень взял книгу, прочел вслух титул:
- "Смеющийся Демокрит, или Поле честных увеселений с поруганием меланхолии", переведено с латинского языка через Василья Ададурова... Переведено... кабы по-латыне...
- Что? Ты уж не по-латыне ли читать собираешься?
Парень молча протянул Хвылянскому свою книгу.
- Ну-ну! - только и выговорил Хвылянский, потом уселся под деревом и требовательно сказал: - Ну-ка, хлопче, рассказывай!
Парень молчал.
- Ты что, боишься меня? Я учитель у Шестоперова - слыхал про такого? Тебя как звать?
- Свешников Иван.
5
- Григорий Афанасьевич, вы давеча говорили - вас из университета выгнали, за что?
Прошло уже месяца полтора, как Хвылянский и Ваня Свешников подружились. Беседы их, поначалу беспорядочные, вскоре превратились в уроки: Хвылянский обучал Ваню географии и французскому языку, истории - Ваня знал только древнюю. В это лето Ваня был мирским пастухом, и Митенька, сын Шестоперова, сдружившись с Ваниным помощником Фролкой, охотно оставлял своего наставника, слушал длинные Фролкины рассуждения о нравах деревенских коров и с упоением постигал искусство щелкать бичом. Ваня тем временем учился.
А в минуты отдыха Григорий Афанасьевич рассказывал ему о Москве, о Петербурге, о детстве своем, об Украине...
- За что из университета выгнали? - раздумчиво повторил учитель. - Я тебе могу рассказать, дружок, только... - Хвылянский взял Ваню за щеки и пристально заглянул в глаза... - только, если кто проведает, мне будет худо. Сибирь либо еще что - разумеешь?
- Григорий Афанасьевич! Да разве я...
- Ладно, ладно. Ну, слушай. Вирши я написал четыре года назад, в самую пугачевщину:
Как некогда легли раздраны
В тени батыева шатра,
Не токмо грады, но и страны,
И глав отсеченных гора
Привычный вид собой являла -
Тому пример мы новый зрим:
Собрав языки под началом
Санкт-Петербург - четвертый Рим -
Точит потоки крови ныне;
Вознесшись в пагубной гордыне,
Презрев добро и честный труд,
Гнетет иноплеменных выи
Крестом, кнутом, и грозовые
На сей сберутся тучи блуд!
- Ну и дальше там было - весьма сердито, - невесело рассмеялся Хвылянский. - За это вот и был изгнан. И то спасибо нашему Хераскову, от петли спас, эх, что и говорить!
Он махнул рукой и отвернулся. Ваня помолчал немного, сказал осторожно:
- Я и не знал, что такие вирши бывают.
Хвылянский вопросительно посмотрел на него.
- Складные, - пояснил Ваня. - Я не про суть говорю, суть-то, как в наших песнях, а про склад. Отец-то Николай такие не читал.
- А ты, я гляжу, нашу словесность и не знаешь. Стыдно, дружок!
- Ничего не стыдно! - вспыхнул Ваня. - Что читать-то? Борзописцы-сочинители! Воротит меня от писаний ихних. "Философия для простого мужика весьма бесполезна, и ему надобно делать больше, нежели рассуждать". Жалеют нас, а потом пишут, что мы, дескать, "к сохе родились" и нечего нам, "выпучивши глаза вверх", звезды стеречь. Читал я, запомнил даже - хватит с меня.
- Постой, постой, - оживился Хвылянский, - это ты Эмина отведал? Вот уж подлинно борзописец. Двоемыслие, да еще и торопливое. Для него же сочинительство - промысел. Э-э, братец, да ты истинного поэта почитай - Ломоносова, тоже был мужик вроде тебя, да Тредиаковского - дельный был работник в русской словесности. А НовикОв неподкупный! А Сумароков, а Херасков - знать их надо! Стыдно не знать их грамотному. Вот уж на что Шувалов офранцузился, а и тот - спасибо ему - русских сочинителей пестует и сам у них учится - умнейший человек! Так тебе ли, мужику, отечественную словесность не знать! Кто ж тогда слово русское хранить будет! Петиметры - дворянчики? Они давно для машкерадов только и годятся. Петровы времена прошли - не лпора они государству, им самим опора нужна. Погляди-ка, шпаги-то все на палки да на трости посменяли, ходят, подпираются, одним - костыль, другим - забава. Нет, государство живо только народом, простолюдьем, а сочинительство - сила, не удавишь ее, не четвертуешь.
- Я их непременно прочту, про которых вы говорите, - сказал Ваня задумчиво. - Российских сочинителей... только вот...
- Что "только"? - устало спросил Хвылянский.
Юноша промолчал, он слушал книжную, замысловатую речь своего наставника и сомневался, что толку? Ну, что толку, коли он в теперешнем своем состоянии одолеет всю эту премудрость российских сочинителей да и прочих? Пылкость бывшего студента его не заражала. Конечно, ему повезло, да еще как! Шутка ли, встретиться с таким человеком, как Григорий Афанасьевич! Но красноречие его, - как далеко оно от всего деревенского! Через неделю подходит срок повинности. А ведь им, Свешниковым, да еще двум-трем семьям старой веры - платить вдвое против остальных. Словесность... В прошлом месяце мужика в соседней деревне зарубили, просто так, по пьянству. Шел с топором, плотничал, должно быть; догнали пьяные, отняли топор и - зарубили, просто так... Нет, надо выбиваться...
- Я прочту их, Григорий Афанасьевич, - сказал он Хвылянскому.
________________________________
* Журнальный вариант
Ист. журнал "Пионер"
1980-е
