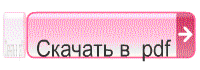Виктор Богатырев
1960-е
Рисунки Е. Расторгуева
как только откроют. Ящичек забили, а сверху крупными буквами на всю крышку написали:
"ДЕДУШКЕ ЛЕНИНУ В МОСКВУ".
1924 год. Мы живем на хуторе Черный Ерик. Мы - это Павка, Симка и я, Гришка. Все хуторские мальчишки считают нас самыми закадычными друзьями. Да оно так и есть: куда ни глянь - мы втроем. Телят пасем втроем; в городки играем втроем; иногда в чужие сады забираемся, и опять втроем. Это летом... А зимой с утра до вечера у Павки пропадаем, иногда даже ночевать остаемся. Павкин батька работал в станице, дома бывал редко, а на хозяйстве сидел только глуховатый дед, который совсем не обращал на нас внимания, - занимайся чем хочешь, и никто тебе слова не скажет.
Зима, про которую я рассказываю, выдалась снежная. За хутором, где дорожка круто спускалась к роднику, мы протоптали широкую полосу, залили ее водой, и получилась хорошая ледяная горка. С того дня шум здесь стоит, как в станице в базарный день. Мальчишки и девчонки съезжают кто на чем: на досках, на камышовых кулях, а то просто сядут на ледяную дорожку и скатываются вниз.
Самые лучшие санки у нас - Павкин дед соорудил: новенькие, с загнутыми полозьями. Мчатся далеко! И, не затормози палкой, влетят прямо в не замерзший родник.
...Один раз так и получилось. На "тормозах" все время Павка сидел. А тут Симка напросился: дай да дай. Павка сначала не соглашался, потом сдался - ладно. Сели, поехали. Проскочили середину горки. Симка палку выставил, стал притормаживать. И вдруг палка - хруп!.. Треснула пополам. Павка последним сидел, успел спрыгнуть, а нас с Симкой занесло прямо в воду. Павка подбежал, успокаивает:
- Ничего, у меня сейчас обсушимся.
Только поднялись наверх, слышу, Колька Улитенко кричит:
- Гришка, тебя батька спрашивал! К вам приехал кто-то...
Ну, думаю, пропал! Дома увидят меня мокрого по пояс - отлупят. Мамка ничего: добрая она у меня, как и все мамки, а вот батько... Ему только причину дай.
Иду и молю: хотя б дядя Костя приехал. Дядя Костя всегда заступится.
...Дядя Костя работал председателем в станичном совете и жил в станице. Лет ему немного, но голова совсем седая. И потом одна нога у него настоящая, а другая деревянная. При ходьбе настоящая ступает хорошо, а деревянная тукает, хотя дядя Костя и набил на нее резинок. Ногу ему оторвало белогвардейским снарядом. И еще одну метку оставила дяде Косте война. Ее я заметил случайно, в последний приезд. Дядя Костя разделся до пояса, чтобы умыться с дороги, и тут я увидел на спине, как раз между лопатками, синеватую пятиконечную звезду. Концы у нее были не такие острые, какими должны быть, а гнутые и разные. Дядя Костя заметил, что я смотрю на спину и не поливаю ему на руки, и улыбнулся:
- Клеймо думали сделать, а получился орден... Правда?
Приезжает дядя Костя - и в хате праздник. Мамка бежит в сарай, бежит в сени, к кадушкам, спускается в погребок, и на стол выставляются соленые огурцы, помидоры, квашеные арбузы. А батько из-за старого комода достает четверть сливянки. Мамка приготовит стол и идет в залу. Там она долго прихорашивается перед треснутым зеркалом. Из залы она выходит красивая, с цветастой персидской шалью на плечах, так что сразу и не узнаешь. Выходит и всегда говорит одно и то же:
- Из четверти, небось, и дух вышел, пока я прихорашивалась?
Батько тоже отвечает ей всегда одно:
- Дух на донышке сидит.
Садятся за стол. Про меня батько с мамкой просто забывают. Вспоминает дядя Костя и спрашивает:
- А где же наш казак Григор?
Тогда я слезаю с печки и только хочу взять себе табуретку, как дядя Костя останавливает:
- Погодь. Дай-ка мне мою коробушку.
Коробушкой он называет деревянный сундучок со скрипучей крышкой, обклеенной изнутри всевозможными картинками. Когда я подаю сундучок дяде Косте, он спрашивает:
- Скажи, что тут имеется?
Я никогда не угадываю. Скажу: книжка с картинками!.. А дядя Костя достает маленькую гармонику. В прошлый раз он привез мне портрет Ленина. Маленький, в простенькой деревянной рамке и даже без стекла. Я к тому времени про Ленина многое слышал, а портрета ни разу не видел. Помню, прежде чем отдать портрет мне, дядя Костя сначала сам внимательно посмотрел на него:
- Вот... Мамку родную забудешь, а его чти. Понял?..
Потом, когда я уберу подарки и займу место на табуретке рядом с дядей Костей, батько разливает по стаканам сливянку. Пьют они втроем, а наливают четыре стакана. Не для меня, нет. Сливянку я не пью, мне даже запах ее не нравится. Четвертый стакан наливается для дядьки Василия. Дядьку Василия я совсем не помню. В девятнадцатом году в балке за Черным Ериком дядьку Василия расстреляли белые.
Дядя Костя, батько, мамка по очереди стукают своими стаканами в четвертый, и он отзывается коротким тоскливым звоном. Посидят, выпьют, закусят, а потом начинаются воспоминания. В основном вспоминает дядя Костя. Батько, мамка и я слушаем...
...Он вспоминает про то, как вместе с дядькой Василием решил наведать родителей в Черном Ерике. Ехали верхом на конях и не думали, что на хуторе белые. Их схватили. Предлагали, мол, переходите к нам. Отказались. И тогда их стали бить. А когда узнали, что дядя Костя - большевик, то и вырезали звезду на спине. Дядько Василий, хотя и не состоял никогда в большевиках, обиделся: "Что ж меня обходите?.. Я хоть и беспартийный, но тоже большевик". Его за это изрезали всего и бросили в сарай вместе с дядей Костей. Мол, подумайте в холодке. Дядько Василий даже не стонал. Он только жалел, что умрет не так, как желалось. А желалось дядьке Василию, чтоб в день его похорон по всему хутору играли гармошки, как на свадьбе или крестинах. Дядько Василий был веселым человеком. Даже утром, когда его уводили и он еле-еле держался на ногах, дядько Василий с улыбкой сказал дяде Клсте: "До встречи. Как пройдешь райские ворота, слева побачишь кабачок. В кабачке дед обещался меня ждать, туда и ты приходи. Не забудь, Коська, сразу слева от ворот..." Дяде Косте не пришлось искать тот кабачок: выручили его.
И каждый раз после того под Новый год обязательно приезжает в Черный Ерик дядя Костя, хотя уже и не живет здесь. Вместе с батькой и мамкой за стаканом сливянки поминают они дядьку Василия - веселого человека, которого не помню я.
За вторым стаканом бледное лицо дяди Кости становится румяней. Он начинает тихонько запевать любимую песню дяди Василия:
- Ой, на горе тай жнецы жнут.
После песни снова воспоминания. Вспоминают про то, как втроем парубковали в Черном Ерике, как все трое любили одну - мою мамку. Только мой батько догадался выкрасть ее и обвенчаться, а дядя Костя и убитый дядька Василий не догадались. Иначе могло быть так, что моим батькой был бы не батько, а дядя Костя или дядько Василий.
Под конец мы всегда идем за хутор, где на бугре, под вербой, могила дядьки Василия...
"Хотя б дядя Костя приехал..." - молил я про себя. Тот в защиту пойдет, если батько станет кричать из-за моего купания.
И точно!.. У нашего плетня стояли санки дяди Кости. И лощадь его, чалая Ланка.
Стол уже приготовили, а мамка хорошилась в зале.
- Здорово хуторянам! Закурить нема? - так всегда здоровался со мной дядя Костя.
Он улыбнулся, но я сразу заметил, что улыбка у него не как всегда - невеселая. Батько увидел, что я наполовину мокрый, нахмурился, но в драку не полез.
Я стал скорее стягивать мокрые бурки.
- Значит, до весны никак? - Батько вернулся к прерванному разговору.
- Снегу намело, конь не идет, да и кулачье их на дальних хуторах подкармливает, - ответил дядя Костя.
Я понял, что говорят они про зеленую банду, которую ловят с осени и никак поймать не могут.
- Про Ленина... правда? - спросил батько.
- Правда, - вздохнул дядя Костя и совсем стал хмурым.
О болезни Ленина заговорили у нас на хуторе недавно. Ходили слухи, что здоровье его в последнее время стало совсем безнадежным. Говорили, а я удивлялся: почему там, в Москве, медлят? Не молчать нужно, а кликнуть клич на всю землю, чтобы со всех сторон съехались самые лучшие врачи. Посмотрели бы, посоветовались. Одна голова хороша, а когда много, - всегда лучше. Что-нибудь обязательно бы придумали. Я про это хотел даже в Москву написать, но не мог: школы на хуторе не было, и я даже азбуки не знал.
Из залы вышла мамка в своем цветастом платке и сказала:
- Наверно, и дух из бутылки вышел, пока я... - Но тут она увидела, что никакой бутылки на столе нет, и с удивлением посмотрела на батьку.
- В другой раз, Ефимовна, - ответил дядя Костя. - Думаю, Василь не обидится. - Дядя Костя повернулся ко мне: - Извини, Григор, я даже коробушки не захватил. Вот бандитов переловим, Ленин поправится, тогда...
Дядя Костя тут же собрался уезжать, но мамка с батькой уговорили его хоть картошки да огурцов отведать. Хотели картошку посолить, а соли нет.
- Ну-ка пулей к бабке Романенчихе! - приказал мне батько.
Я обул мамкины валенки и выскочил на улицу. Бабка Романенчиха в соседней хате живет. Прихожу, а там гость - Игнат Павлоградский. Сразу видать, немного выпивши. Говорит бабке:
- Милая ты моя, глянь! - Раз присел, два присел и такую дробь ногами отбил, что аж стекла в окошках зазвенели. Потом бухнулся перед бабкой на колени и кричит: - Родная ты моя, дай руку!..
Бабка протянула ему высохшую от времени руку. Павлоградский взял и поцеловал, как у какой-нибудь заморской принцессы. Этого ему, наверно, показалось мало. Он махнул рукой, мол, была не была, и расцеловал бабку прямо в губы. А у нее и губ-то нет, так, какие-то синенькие полоски, как у всех стариков.
- Век помнить буду, а умру - внукам закажу. - Тут Павлоградский расплакался, даже меня не постеснялся. Было видно, что от души он это, от самого сердца. - Пять лет на горшок, как сопливого, носили... Говори, родимая, что нужно? Без нитки останусь, а рассчитаюсь!
Бабка Романенчиха прослезилась.
- Христос с тобой, Игнатушка. Начал ходить - вот и вся расплата... Для меня тоже радость великая.
Он еще раз поцеловал бабку и убежал.
Бабка стала доставать для меня коробку с солью. Достает и приговаривает:
- Чудной Игнатушка, воистину чудной!..
Игнат Павлоградский пришел с фронта контуженный. Щека дергалась, руки тряслись. Потом он простудился и совсем согнулся, ноги отняло так, что ни сесть, ни встать. Из самого города жена привезла ему доктора. Доктор посмотрел, послушал и сказал, что никудышный Игнат, без надежд. Жена не поверила. Стала всяких знахарей приводить, шептух, а все без толку. Один раз Игната проведала бабка Романенчиха, посмотрела и сказала, что попробует. И начала лечить, парить ноги Игната в моховом отваре. Этот мох у нас на каждой камышовой крыше зеленеет, даже я несколько раз снимал со своей хаты для бабки. И вот затанцевл Павлоградский после травок.
...Тут меня в голову стукнуло: а что, если... Я, конечно, так прямо не сказал. Просто спросил:
- Баб Марусь, а от пуль отравленных вы можете излечить?
Бабка подумала.
- Я когда-то самого станичного атамана от печенки излечила, а с пулей трудновато будет. На пулю травка-девятисилка нужна.
- А где ее взять?
- Самая сила в травке в ночь под Новый год бывает. Ровно в середине ночи ее треба выкопать под заклинание и потом зелье готовить. В девять раз сильней станет тот, кто зелье то пить будет.
Из сундука бабка достала картонную коробку и показала мне толстый корень. Я даже сначала подумал, что это колбаса: и толщина такая, и корочка коричневая, и мякоть розовая. Когда бабка вынула сухой цветок девятисилки, я сразу вспомнил, что недалеко от родника в балке видел летом эту самую травку. Цвела она крупными желтыми ветами, а из широких бархатистых листьев мы свертывали кульки и черпали ими воду из родника. От девятисилки до сих пор торчат над снегом сухие стебли, так что найти можно будет.
- Этот корень тебе не подойдет, летом копался он. Зимний нужен, в нем все соки.
- А какое заклинание?
Бабка нахмурила лоб, подумала.
- Травка-девятисилка, дай силки, как у Василки... В самом деле думаешь пойти?
- Пойду, - твердо ответил я.
- Он, наверно, ваш родак?.. Ну, этот подстреленный...
- Родак.
Имя я ей тогда не назвал. Думаю, пусть приедет на излечение, сразу бабка поймет, что он не только мой родак, но и ее и всех.
Пока я нес соль домой и повторял слова заклинания, у меня придумался план: сегодняшняя ночь будет новогодней, сходим с батькой в балку, выкопаем корень, потом он письмо с приглашением напишет. А пока Ленин подъедет, у бабки питье будет готово.
...Когда я пришел, батько, мамка и дядя Костя доедали картошку без соли. Батько мне сказал:
- Тебя только за смертью посылать.
Тогда я рассказал про Павлоградского, про девятисилку, про целебную силу ее корня и сказал, чтобы сейчас же писали письмо в Москву. Батько слушал, слушал и вдруг как захохочет. Его рыжие от табака усы так и запрыгали:
- Думаешь, в Москве дураки сидят? - А когда насмеялся, пригрозил: - Цыц! А то перед хутором осрамишь, двадцатисилка несчастная.
Дядя Костя, наоборот, не смеялся. И я подумал: раз он молчит, значит, он за меня, значит, я прав.
Потом, когда он уже садился в санки, сказал:
- Все верно, Григор. Только не сможет Ленин приехать, болен сильно. Понял?.. Ну, до встречи, казак! - Он подал мне свою крепкую руку.
Чалая кобылка с места взяла в карьер. А когда санки скрылись за поворотом, мне подумалось: ну и что, если не сможет приехать? Мы ему посылкой отправим, а в письме объясним, что и к чему, как питье готовить из девятисилки. Пусть батько смеется. Я подговорю Симку и Павку, и обойдемся без него. А когда у Ленина сил в девять раз прибавится, узнает, как смеятся.
И не успела просохнуть моя обувка, как я помчался к Симке, а от него к Павке.
Послушали они, задумались. Дело-то не шутейное, ночью в балку не каждый пойдет. Совсем недавно волки утащили у Лященковых собаку и слопали как раз в этой балке, от бедной одни косточки остались.
Но в конце концов решили так: Павка незаметно от деда приготовит отцовскую берданку и патроны достанет; Симка фонарь найдет. А я до вечера должен сходить в балку и хорошенько заметить место, где придется копать корни, чтобы потом не заплутать в темноте.
Батьке и мамке я про все эти приготовления ничего не сказал. А когда отпрашивался к Павке на ночь, придумал, что идем посевать. Мы и в самом деле в ночь под Новый год по-старому всегда ходили посевать. Насыпаем полные карманы кукурузы или пшеницы и рано утром стучимся во дворы: "Тетка, пусти посевать!" Если хозяева пускают, мы запеваем песню, "сеем" по полу пшеницей или кукурузой и получаем за это пряники, пирожки, орешки.
Павкин дед тоже ни о чем не догадывался. Да если б и догадался, не страшно. Он целыми днями сидел в своем "святом углу" под двумя большими лампадами и крючковатыми от ревматизма пальцами перелистывал страницы пухлого евангелия. Больше его ничего не интересовало.
<к содержанию раздела
продолжение>